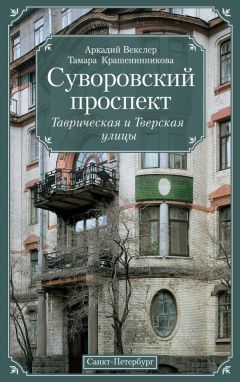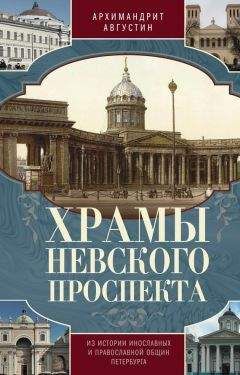Александр Николюкин - Розанов
Тогда по всей России «автономия университетов» перекинулась бы на «русские события». Это стало бы возникновением во всяком городе, где есть высшее учебное заведение, «неприступных цитаделей» для борьбы с «невозможным старым порядком», который, то есть этот «порядок», туда не может по статуту вступить. «Невступаемая крепость», как Ватикан, естественно непобедима, говорит Розанов, как Ватикана не может взять вся Италия. У нас же было бы (все высшие учебные заведения) около сорока «Ватиканов», с правом вылазки и вообще войны. Трудно отказать в прозорливости и понимании политической ситуации Розанову, видевшему даже на примере своего родственника, какие силы стояли за спиной студенчества и какие гибельные для России цели они преследовали. А ведь именно Россия была для Василия Васильевича превыше всех партий и постоянно враждующих между собой идеологий, «программ», разновидностей социал-демократических и марксистских учений, ведущих страну к катастрофе.
В январе 1881 года умер Достоевский. Эта весть потрясла Розанова. Через тридцать лет в статье «Чем нам дорог Достоевский?» он писал: «Как будто это было вчера… Мы, толпою студентов, сходили по лестнице из „большой словесной аудитории“ вниз… И вдруг кто-то произнес: „Достоевский умер… Телеграмма“. — Достоевский умер? Я не заплакал, как мужчина, но был близок к этому. Скоро объявилась подписка на „Полное собрание сочинений“ его, и я подписался, не имея ничего денег и не спрашивая себя, как заплачу»[78].
Розанов не был в Москве на Пушкинском юбилее и не слышал речи Достоевского, произнесенной 8 июня 1880 года в Благородном собрании (летом он уезжал в Нижний к брату). Но о Пушкинской речи Достоевского говорила вся читающая Россия. «Дневник писателя» на август 1880 года, где была напечатана эта речь, разошелся в несколько дней. В сентябре было отпечатано второе издание. После этого споры вокруг Пушкинской речи возобновились с новой силой и в газетах, и среди студенчества. Розанов не оставался в стороне от них.
И вот теперь Достоевский умер: «И значит, живого я никогда не могу его увидеть? и не услышу, какой у него голос! А это так важно: голос решает о человеке все… Не глаза, эти „лукавые глаза“, даже не губы и сложение рта, где рассказана только биография, но голос, т. е. врожденное от отца с матерью, и следовательно, из вечности времен, из глубины звезд…»[79]
И вспомнилось начало знакомства с книгами Достоевского. Его товарищи по нижегородской гимназии уже все читали его, тогда как он не прочитал еще ничего. «По отвращению к звуку фамилии», как он сам пояснял. «Я понимаю, что Тургенев есть великий писатель, равно как Ауэрбах и Шпильгаген: но чтобы Достоевский был в каком-нибудь отношении прекрасный или замечательный писатель — то это, конечно, вздор». Так Василий отвечал товарищам, предлагавшим прочитать Достоевского.
Гимназисты делали ударение в его фамилии на втором «о», а не на «е», и Розанову представлялось, что это какой-то диакон-расстрига, с длинными волосами и маслящий деревянным маслом волосы, рассказывающий о каких-нибудь «гнусностях». — «Достоевский — ни за что!» — говорил он.
И вот вся классическая русская литература в шестом классе уже прочитана. Гимназистов распустили на рождественские каникулы, и Василий взял из ученической библиотеки «Преступление и наказание». И вновь вспоминается то, что он однажды уже рассказал при публикации своей переписки с К. Н. Леонтьевым:
«Канун сочельника. Сладостные две недели „отдыха“… Впрочем, от чего „отдыха“ — неизвестно, потому что уроков я никогда не учил, считая „глупостью“. Да, но теперь я отдыхаю по праву, а тогда по хитрости. Отпили вечерний чай, и теперь „окончательный отдых“. Укладываюсь аккуратно на свое красное одеяльце и открываю „Достоевского“…
— В., ложись спать, — заглядывает ко мне старший брат, учитель.
— Сейчас.
Через два часа:
— В., ложись спать!..
— Сию минуту.
И он улегся, в своей спальне… И никто больше не мешал… Часы летели… Долго летели, пока раздался грохот за спиною: это дрова вывалили перед печью. Сейчас топить, сейчас и утренний чай, вставать… Я торопливо задул лампочку и заснул… Это было первое впечатление… Помню, центром ужаса, когда я весь задрожал в кровати, были слова Раскольникова Разумихину, — когда они проходили по едва освещенному коридору:
— Теперь-то ты догадался?..
Это когда „без слов“ Разумихин вдруг постиг, что убийца, которого все ищут, — его „Родя“. Они остановились на секунду: и вдруг добрый и грубый бурш Разумихин все понял. Как он понял — вот эта „беспроволочность телеграфа“, сказанная в каком-то комканьи слов (мастерство Достоевского, его „тайна“) — и заставила задрожать меня. Я долго дрожал мелкой, бессильной дрожью…»[80]
В отличие от многих читателей, Розанов за всю жизнь ни разу не пережил от книг Достоевского «болезненного впечатления», о котором говорили многие. Он даже представить себе не мог, что это за «болезненное впечатление», всегда читал его спокойно. «Ровно читаю», — везде ровно, — «моего Достоевского».
В слове «моего» для Розанова выражалась сущность дела — мотив и причина совершенно «безболезненного чтения». Ведь никак не скажешь: «Я читаю моего Толстого», «я читаю моего Горького», «моего Шпильгагена». Почему? — задается вопросом Розанов. И отвечает: «Шпильгаген писал для мира, и когда мир стал читать его, то между читателями очутился и я. Таким образом, между „мною“ и „Шпильгагеном“ не было соединительной нити: я восхищался его идеями или романом. „Шпильгаген“ я употребляю для примера (тогда много его читали), но можно подставить всякое другое имя. Всякий „писатель“ для читателя вообще, для меня, мальчика, был „гора“, на которую я смотрю. Какая же связь? Что общего?»
Самое впечатляющее от Достоевского было то, что он никогда не был для Розанова «горою», не «Тургенев». Но он не с десятой, а с первой страницы, даже, если хотите, с первых строк как будто вошел в эту самую комнату и, побродив угрюмо и молча по ней, подсел к боязливому Васе на кроватку с красным одеяльцем, «пощекотал его, сморщился, улыбнулся и затем тусклым языком, плетясь и плетясь, начал… говорить, рассказывать, объяснять… еще рассказывать, больше всего рассказывать, не обращая никакого внимания на мальчика», и все говорил о какой-то своей задушевной муке, задушевной скорби, о самых тайных своих биографических фактах… А мальчик, хитренький и не учащий уроков, все слушал и замирал… И страшно много узнал нового, неожиданного… Развратился и просветлел… «„Согрешил“ и „воскрес“… все с Достоевским».