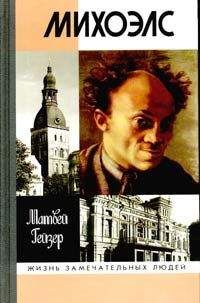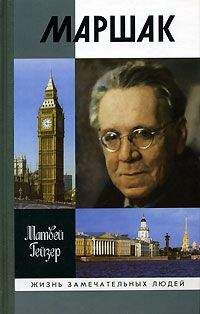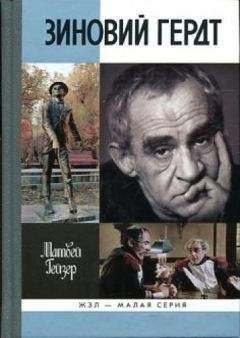Эдуард Лимонов - Кладбища. Книга мертвых-3
Бачуринскую манеру, мне кажется, освоил и позаимствовал художник Борис Заборов, куда более энергичный, чем Бачурин (он, к тому же, не сочинял и не пел песен, так что ничто его не отвлекало от живописи). Заборов уехал в Париж и стал там заметным художником. Бачурин не стал. Он бродил круглыми сутками по мастерским и квартирам художников и охотно откликался на предложение захватить гитару. Пел он охотно и много.
Я полагаю, что существование барда привлекало его больше, чем существование художника, потому только, что бард мог немедленно смаковать свой успех, пожинать плоды в виде аплодисментов, одобрения, благосклонности девушек и женщин. А женщины составляли немаловажную часть бачуринской богемной жизни. У него была жена, ленивая блондинка Марина с родинкой на верхней губе, но Марины ему всегда было мало, его романы я исчислял десятками.
Его сотрясала его южная кровь, ведь он был отпрыском редкой национальности. Он был тат. Татов считают кавказскими евреями, но Бачурин доказывал мне, что евреями они не являются, демонстрируя фотографии предков с кинжалами в папахах и черкесках, на груди такие раструбы, как у современных разгрузок, куда нужно было засовывать горцу его патроны. Детство свое тат Бачурин прожил в Сочи.
Сочинять песни и петь Бачурин начал, как он сам мне говорил, где-то в 1967 году, вдохновленный творчеством Окуджавы. Восхищался он и Галичем и его песнями. Высоцкого Бачурин не любил, однако признавал. Публика тех лет, художники, поэты, писатели и сочувствующие, а именно друзья художников, поэтов и писателей, вскоре признала Бачурина бардом, однако помещала его в хвост как минимум четвертым после мною уже упомянутых.
Песни у Бачурина получались несколько неестественно народные, такой звучащий лубок:
Дерева вы мои, дерева,
Что вам голову гнуть — горевать
До беды до поры,
Шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема…—
распевал кудлатый Женя, старательно склонив лицо над гитарой. В такие моменты он был похож на фавна. Женщины его таким и видели, и охотно раздвигали ноги, оказавшись под его вакхическим ликом, и торсом, и взором.
Мы живем в ожидании вишен,
В ожидании лета живем,
А за то, что одной лишь надеждою дышим,
Пускай нас осудят потом.
То, что он певец мастерских, дитя стихии красок, кистей, скипидара, натурщиц и богемного быта, подчеркивала его песня «Огюст, Орест и Онорэ» — размашистая и французистая. «Огюст — это Огюст Роден, Онорэ — это Оноре де Бальзак, и Орест — лицо вымышленное», — с удовольствием объявлял Бачурин перед каждым исполнением.
Огюст, Орест и Онорэ
Сидели как-то в кабарэ.
Ах Онорэ, сказал Огюст,
Нельзя ли вылепить с вас бюст?
Орест сказал, послушай, брат!
Нельзя ли вылепить мой зад,
Нет, нет, воскликнул Онорэ,
Уж я от кофею помрэ.
Это, конечно, поэтическая шутка, и не нужно было иметь высокий ум и талант, чтобы сочинять такое, но песенка по-своему милая. Есть в ней и ловкое чудачество.
Именно чудачество ему, я предполагаю, нравилось и в моих стихах. Недаром он соорудил из моего стихотворения «Тетушка» песню и включил ее в свой репертуар. Вообще-то он редко пользовался чужими текстами:
Если кто-то есть на лавке,
Это тетушка моя,
Здравствуй, тетушка моя,
Под окошком белая…
Он был чуть ниже меня, однако широкоплечей, чем я, молодой похотливый фавн.
Он многое сделал для меня, младшего товарища. Денег он мне не давал, он сам всегда побирался у более обеспеченных товарищей. Так, он дружил с Максимом Шостаковичем и бережно оберегал эту дружбу от посторонних.
Однако он таскал меня с собой, у нас сложился такой поэтическо-певческий тандем. Мы выступали в мастерских художников, как-то добрались до Дома отдыха художников на Сенежском озере, где выступили с грандиозным успехом и столь же грандиозно пропьянствовали там дня три или четыре. Большее пьянство произошло со мной, только когда в 1996 году я поехал в батальон ВДВ в Кубинке. Только десантникам уступают художники в своем эпическом ликеро-водочном загуле.
Бачурин познакомил меня с художницей Ольгой Владимировной Траскиной, и я немало поблистал в ее салоне, а также немало продал там своих самодельных поэтических сборников, по пять рэ штука.
Бачурин познакомил меня с семейством Салнитов, и эта многодетная молодая пара пригрела меня, уезжая летом на дачу, оставила мне свою квартиру в Большом Гнездниковском переулке, дом 10. В том же помещении когда-то располагалась газета «Гудок», где работал советский классик Олеша и еще кто-то, кого я подзабыл, знаменитый.
В 1973 году в феврале именно туда, в квартиру Салнитов, перевезли мы имущество Елены Сергеевны Щаповой, ушедшей от мужа. И там же в октябре 1973-го состоялась наша свадьба. После венчания в Брюсовской церкви на улице Неждановой мы приехали к Салнитам.
Это Бачурин весной 1973 года пустил нас, влюбленную молодую пару, в свою мастерскую в Уланском переулке, и мы там прожили больше месяца. Правда, он постоянно бурчал, порою приходил в мастерскую ни свет ни заря, он явно не годился на роль гостеприимного хозяина.
Так что, получается, этот фавн и тат многое для меня сделал.
Понимал ли я в те годы, что его песенный лубок — это поверхностное скорее поп-искусство, ведь мои стихи того времени глубоки, мистичны и трагичны?
Да, понимал некоторую вульгарность его таланта. Нервность Бачурина, его внезапную мрачность я правильно объяснял его повышенной ревностью к соперникам сразу на двух полях, на которых он одновременно подвизался, — песенном и живописном.
В 1974 году я вместе с улыбающейся красоткой, она же мина замедленного действия, улетел в Вену.
С 1989 года я стал навещать старую Родину, но мне и в голову не приходило повидаться с Бачуриным. После тех людей, которых я встретил в Соединенных Штатах и во Франции, Бачурин превратился для меня в незначительного персонажа моей жизни, задействованного в одном эпизоде. Достаточно сказать, что в Москве-то я прожил в первый заход с 1967-го по 1974-й, всего семь лет, а, для сравнения, в Париже — 14 лет!
Я вообще о нем не вспоминал, я думаю. И у меня не было с его миром никакой связи. И только уже совсем где-то в поздние времена, уже после тюрьмы, я вдруг получил приглашение прийти на его концерт в Центральном доме литераторов.
В зале было так удручающе мало людей, что мне захотелось уйти тотчас же, дабы не присутствовать при его неудаче. Я пришел не то с тремя, не то с четырьмя товарищами-охранниками. Мы сели на седьмой ряд. И впереди и сзади было зияюще пусто. Только незанятые красные кресла.