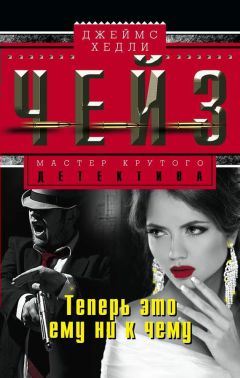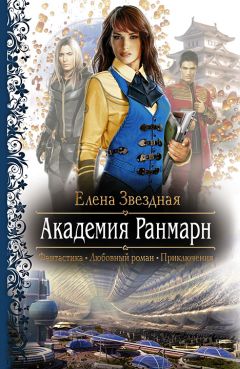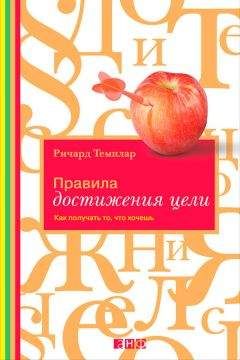Борис Кремнев - Шуберт
Повседневность, густая, липкая, омерзительно студенистая, все плотнее обволакивала Шуберта. Подобно осьминогу, она высасывала силы. Что ни день, одно, и то же – школа, букварь, таблица умножения, ребятишки с их шалостями и упрямым желанием развлекаться, а не учиться. Безденежье, гнусное и унизительное, беспрестанный, иссушающий душу и разум счет грошам.
Казалось, всему этому не будет конца. Равно как и бесконечным нотациям отца, его многоречивым поучениям, хмурым взглядам.
Вырваться! Вырваться отсюда! Любою ценой!
Неожиданно представился случай, и Шуберт жадно схватился за него. В городе Лайбахе (ныне Любляна), в только что созданной нормальной немецкой школе открылось место учителя музыки.
Это было несоизмеримо лучше того, чем он обладал. И предмет преподавания любимый, и учащиеся взрослее и серьезнее, и времени свободного больше, и жалованье намного выше – 450 флоринов плюс 80 флоринов наградных.
Правда, заняв это место, он лишился бы Вены, друзей. Лайбах в Словении, это не близко. Но что поделаешь: выигрывая одно, теряешь другое. Такова жизнь, чем-то волей-неволей приходится поступаться.
Лайбах сулил выход из того в общем безвыходного положения, в котором он находился. И Шуберт, смирив свой нрав и поборов отвращение, принялся хлопотать, просить, вымаливать. В конце концов ему удалось заручиться рекомендациями венского магистрата и маэстро императорско-королевской капеллы Сальери.
Но старик неожиданно оказался чрезвычайно скупым на добрые слова. Хотя в данном случае они были бы, как никогда, кстати. Несмотря на то, что Шуберт в длинном и учтивом прошении ссылается на своего учителя, «по чьему доброжелательному совету он и обращается с просьбой о, предоставлении этой должности», Сальери написал: «Я, нижеподписавшийся, подтверждаю все изложенное в прошении Франца Шуберта относительно музыкальной должности в Лайбахе». И больше не прибавил ни слова.
Этим отзывом он не помог, а навредил своему ученику. Только Шуберт с его неискушенностью в житейских делах мог подать эту сухую, формальную отписку как рекомендацию. Впрочем, что ему оставалось делать? На какие другие музыкальные авторитеты мог он еще опереться?
Однако неблаговидная роль Сальери только этим не ограничилась. Хитроумный итальянец, как никто другой постигший «мудрость кривых путей», примерно такие же отзывы выдал еще трем своим ученикам, претендовавшим на то же самое место.
Просьба Шуберта была отклонена. Ему ничего другого не оставалось, как продолжать тянуть унылую служебную лямку в приходской школе своего отца.
Все же к Шуберту пришла слава. Пусть не звонкая и не широкая, пусть стиснутая пределами одного предместья, но все-таки пришла.
Лихтентальской церкви исполнялось сто лет. В честь юбилея Шуберту было поручено написать торжественную мессу. В том, что выбор пал именно на него, немалую роль сыграл Франц Теодор. То, что Франц выступит автором мессы, чье исполнение явится центральным событием торжеств, безмерно льстило Францу Теодору. Это имело и чисто практический смысл: авторство сына еще больше увеличит уважение прихожан к отцу, что, без сомнения, благотворно отразится на делах приходской школы, а значит, и на доходах ее учителя.
Впервые в жизни Шуберт ощутил не враждебное противодействие, а поддержку отца в том, что касалось музыки.
Месса была написана к сроку. И удалась. В ней была и торжественная величавость, и возвышенность, и благоговейная набожность. Недаром Шуберт был учеником Сальери.
Но было в ней и другое – простодушная сердечность, мягкая, наивная человеческая теплота, задушевная мелодичность. Недаром Шуберт был Шубертом.
Вековой юбилей выдается раз в сто лет. Поэтому даже самые бережливые прихожане не поскупились на пожертвования. И празднества прошли с размахом, оказавшим бы честь не только скромной приходской церкви предместья, но и столичному собору.
Под высокими сводами лихтентальского храма мощно гремели хор и оркестр.
Дирижировал сам автор.
Партию органа исполнял его брат Фердинанд.
Успех был большой. После окончания службы молодого композитора окружили. Ему жали руки, его обнимали, его похлопывали по спине и плечам. А он растерянно улыбался, краснел, неловко переминаясь с ноги на ногу, протирал платком стекла очков. И, близоруко щурясь, с грустью поглядывал по сторонам – как бы улизнуть от стесняющих проявлений восторга?
Зато Франц Теодор принимал почести, обрушившиеся на сына, стойко. Он степенно кивал головой.
Важно раскланивался. Всем своим поведением давал понять, что, конечно, благодарит уважаемых друзей и знакомых, но вместе с тем считает их благодарность заслуженной данью таланту сына.
Франц Теодор был доволен. Особенно ему понравились слова одного из самых почтенных и уважаемых прихожан. Тот, указывая на юного музыканта, сказал:
– Прослужи он тридцать лет придворным капельмейстером, все равно лучше бы не сыграл.
А когда месса через несколько дней была повторена, ее исполнение почтил своим присутствием сам Сальери. На сей раз он не поскупился на похвалы. Прослушав мессу, старик заявил:
– Франц, ты мой ученик, и ты еще не раз прославишь меня.
На радостях Франц Теодор настолько расщедрился, что тряхнул кошельком и подарил сыну пятиоктавное фортепьяно.
Торжества приходят и уходят, а жизнь идет своим чередом. Схлынет яркая радость праздника, и вновь повиснет бесцветная муть повседневности. Как ни гордился Франц Теодор сравнением сына с придворным капельмейстером, как ни ценил мнение Сальери, он твердо был уверен, что ни то, ни другое не гарантирует прочного и обеспеченного существования. Да, талант, разумеется, неоспорим. Но что такое талант? Дар божий. А живешь с людьми. Люди же с охотой пользуются дарами, не одаривая взамен. Значит, надо жить, как жили прежде. Делать свое дело изо дня в день, из года в год. А талант… пусть украшает праздники.
Есть натуры бойкие, цепкие к удаче. Они умеют из минимально благоприятного извлечь максимальную пользу. Шуберт к таким натурам не принадлежал. Даже большой успех он не мог обратить хотя бы в малую выгоду. Поэтому жизнь его и дальше потекла так же, как текла до того.
И вместе с тем месса не прошла для него бесследно. Ей он обязан встречей, наполнившей жизнь отголосками счастья и нежной печалью.
Человек окружен множеством лиц. Они мелькают, появляются, исчезают, возникают вновь, чтобы снова исчезнуть. Как вдруг происходит нечто удивительное. Из пестрой, стремительно сменяющейся вереницы лиц выдвигается одно. Оно неожиданно становится желанным, необходимым. Без него жизнь кажется никчемной и пустой. Во встречах с ним теперь смысл и цель существования. И странно, лица людей, родных по крови и духу, отныне заслонены этим новым, недавно совсем еще чужим и малознакомым лицом.