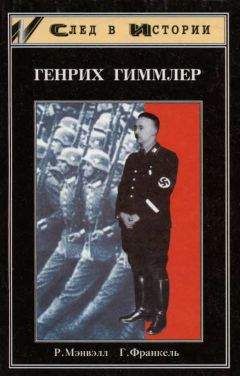Николай Капченко - Политическая биография Сталина. Том III (1939 – 1953).
Москва, 28 сентября 1939 года»[68].
Такова в своих главных чертах фундаментальная фаза поворота в советско-германских отношениях после прихода Гитлера к власти. То, что Сталин в значительной мере ревизовал свои прежние подходы и оценки в отношении Германии, заключив пакт о ненападении, свидетельствуют многие факты. Вот один из них. Беседуя 25 марта 1935 г. с видным деятелем английских правящих кругов А. Иденом, он говорил буквально следующее: «В Европе большое беспокойство вызывает Германия. Она тоже вышла из Лиги наций и, как Вы сообщили т. Литвинову, не обнаруживает желания в нее вернуться. Она тоже открыто, на глазах у всех, разрывает международные договоры. Это опасно. Как мы можем при таких условиях верить подписи Германии под теми или иными международными документами? Вот Вы говорили т. Литвинову, что Германское правительство возражает против Восточного пакта взаимной помощи. Оно соглашается лишь на пакт о ненападении. Но какая гарантия, что Германское правительство, которое так легко рвет свои международные обязательства, станет соблюдать пакт о ненападении? Никакой гарантии нет. Поэтому мы не можем удовлетвориться лишь пактом о ненападении с Германией. Нам для обеспечения мира нужна более реальная гарантия, и такой реальной гарантией является лишь Восточный пакт взаимной помощи. Ведь, в самом деле, в чем заключается существо такого пакта? Вот нас здесь в комнате шесть человек, представьте, что между нами существует пакт взаимной помощи, и представьте, например, что т. Майский захотел бы на кого-нибудь из нас напасть, что получилось бы? Мы все общими силами побили бы т. Майского»[69].
Конечно, мысль Сталина относилась совершенно к иной международно-политической ситуации, чем сложившаяся к концу 30-х годов. И подобного рода пересмотр прежней точки зрения, соответствовавшей иным реалиям, не может рассматриваться как явление недопустимое, а тем более – политически чуть ли не предательское. Изменилась коренным образом ситуация, и она требовала коренного пересмотра тех или иных политических позиций. Тем более, что Сталин, возможно, лучше других государственных и политических деятелей мира видел не только краткосрочные, но и долговременные последствия мюнхенской политики. Здесь нельзя стоять на почве формализма и упрекать его в том, что изменил свои взгляды. Гораздо хуже и опаснее было бы то, если бы он с упорством маньяка продолжал талдычить о создании блока против гитлеровской агрессии, когда лидеры западных демократий вырыли глубокую могилу для такого блока, тем самым заложив действительные предпосылки для развязывания рук Гитлеру.
Но вернемся, однако, к советско-германским переговорам августа 1939 года. Согласно воспоминаниям лиц, причастных к переговорам с немецкой стороны, одобрение Сталина встретили высказывания Риббентропа о том, что немецкий народ приветствует взаимопонимание с Советским Союзом. Сталин сказал, что охотно верит этому: «Немцы хотят мира и поэтому приветствуют установление дружественных отношений между рейхом и Советским Союзом». Затем Сталин, как явствует из записи разговора, сделанной А. Хенке, «спонтанно» провозгласил тост в честь Гитлера, сказав при этом: «Зная, как сильно немецкий народ любит своего фюрера, я хотел бы выпить за его здоровье». «Эта здравица, произведшая сильнейшее впечатление на немецких гостей, – пишет наиболее компетентный в ФРГ специалист по советско-германскому пакту И. Фляйшхауэр, – в действительности, если соразмерить ее с обычным русским и особенно кавказским церемониалом, представляла собой скромный и скупой на слова жест признания по адресу противной стороны. Он не содержал даже видимости выражения личного уважения»[70].
Наконец, в конце этой встречи Сталин в виде напутствия со всей отчетливостью изложил Риббентропу свою действительную оценку пакта и всего связанного с ним, заявив при прощании, что «Советский Союз воспринимает пакт очень серьезно» и что он, Сталин, «может под честное слово заверить, что Советский Союз не обманет своего партнера». Не было случайным и, видимо, не осталось незамеченным то, что гость не ответил хозяину сопоставимым заверением[71]. Тонкие ноты, звучавшие в высказываниях Сталина, не ускользнули от германского министра иностранных дел. Он увидел в Сталине «человека необычного формата. Его трезвая, почти сухая и тем не менее столь меткая манера выражения, его жесткость и в то же время широта мышления при ведении переговоров показывали, что он не зря носил свое имя»[72].
Коротко говоря, посланцы фюрера смогли воочию убедиться в том, что имеют дело с серьезным политическим противником, которого чрезвычайно трудно обвести вокруг пальца. В этом контексте следует сказать, что тост Сталина в честь фюрера не стоит возводить в некую афористически выраженную оду германскому фюреру. На этом эпизоде многие акцентируют особое внимание, придавая ему непомерную значимость. Мол, Сталин восхвалял германского фюрера – не только врага Советской России, но и непатентованного мирового злодея. Однако, как мне представляется, это была всего лишь дань этикету, поскольку и немецкая, и советская стороны провозглашали тосты как в честь подписания пакта, так и в честь участников переговоров и лидеров обеих стран. Не стоит путать дипломатический этикет с реальной политикой.
Ведь и Гитлер со своей стороны высказывал похвалы в адрес советского лидера, хотя аксиомой, не подлежащей сомнению, выступала его патологическая ненависть к Советской России и к коммунистам вообще. Не случайно в письме к Муссолини, отправленном фюрером 21 июня 1941 года, он признавался своему верному союзнику и единомышленнику: «С тех пор, как я пришел к этому решению (имеется в виду нападение на СССР – Н.К.), я чувствую себя духовно освобожденным. Союз с СССР, несмотря на абсолютную искренность усилий, направленных на окончательное примирение, часто все же раздражал меня, так как казался противоестественным, идущим вразрез с моим происхождением, моими идеями, и моими прежними обязательствами. Я счастлив сейчас оттого, что освободился от этих душевных терзаний»[73].
Едва ли подлежит даже малейшему сомнению, что заключение пакта с Москвой диктовалось политико-стратегическими расчетами Гитлера. Поэтому здесь уместно хотя бы в самых общих чертах охарактеризовать мотивацию действий обеих сторон при подписании пакта.
Для Гитлера пакт был необходим, чтобы обезопасить себя от всяких случайностей ввиду намеченной им польской кампании. Он стремился гарантировать себе свободу действий, не опасаясь, что Москва может в силу причин, не поддающихся точному учету, выступить против его агрессии. Потенциального соперника и будущего главного врага фюрер таким способом хотел сделать если не союзником, то, по крайней мере, нейтральной силой, от которой не могла исходить угроза его непосредственным планам. Хотя Гитлер и не особенно верил, что западные демократии во имя защиты Польши способны вступить с ним в войну (он слишком понадеялся на повторение мюнхенского варианта), такой возможности он отнюдь не исключал. И в данной военно-политической конфигурации нейтрализация Советской России представлялась ему в качестве абсолютно необходимой предпосылки для реализации его геополитических расчетов, не только непосредственно связанных с польской кампанией, но и с более перспективными планами завоевания «жизненного пространства». А эти планы, как отлично знал Сталин, с предельной откровенностью излагались как в «Майн кампф», так и в ряде публичных выступлений. В «Майн кампф» фюрер писал: «Когда мы говорим о новых территориях в Европе, мы имеем в виду главным образом Россию и зависимые от нее приграничные государства. Сама судьба указывает нам этот путь». В 1936 году он повторил это публично: «Если бы мы имели в нашем распоряжении Урал с его неисчислимыми запасами сырья, леса Сибири, и если бы бескрайние поля Украины лежали в пределах Германии, наша страна утонула бы в изобилии»[74].