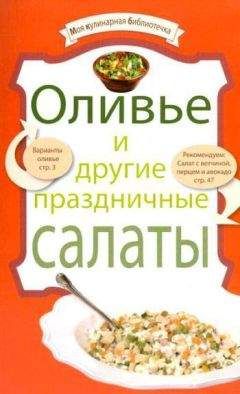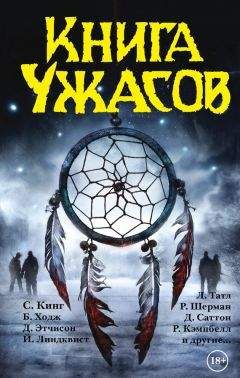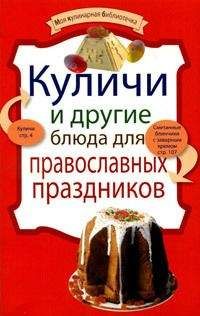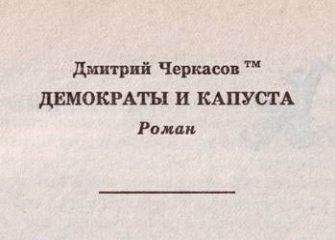Сергей Николаевич - Майя и другие
Бродский упоминает также песню Цары Леандер “Новгородская роза”, ставшую шлягером в Советском Союзе. Может быть, за этими строфами скрыта засекреченная информация? – подозревает Аркадий Ваксберг.
Спою про новгородскую красавицу одну:
Любимый с ней прощается, уходит на войну.
“Возьми, любимый, розу, алую, как кровь,
Вернись скорее в Новгород, храни мою любовь!”
Война и смерть повсюду, но месяцы прошли,
Весна вернулась в Новгород, и розы зацвели.
А сердце защемило, наполнилось тоской,
Ведь не вернется милый в свой Новгород родной.
Но эта песня была написана в 1959 году.
Возмущенная непрекращающимися слухами Цара заявила: “Обещаю вам, что тому, кто сможет доказать, что я была немецкой, русской, американской или еще чьей-то шпионкой, я отдам все свое имущество: поместье, деньги, меха и своих детей в придачу!”
Уже после ее смерти заслуженный шведский дипломат Гуннар Хэгглеф выдвинул еще одну теорию, на этот раз с целью ее реабилитации. “Цара была шведской шпионкой, – утверждал Хэгглеф в 1988 году, – и помогала легендарному шведско-американскому разведчику Эрику Эриксону в выполнении заданий в немецком тылу”. Но на этот раз не последовало никаких доказательств, вместо этого в аргумент бралась неразлучная дружба Цары с Карлом Герхардом, считавшаяся свидетельством ее антифашистских взглядов.
Вернемся к шведской тайной полиции и заведенному на Леандер досье под кодовым названием “Личное дело № 43”, в котором зарегистрирован еще один подозрительный факт: восточногерманская радиостанция бесстрашно транслировала ее песни. В 1947 году находящееся под контролем русских “Берлинское радио” выпустило получасовую программу о Царе Леандер. Последовали протесты в шведской прессе, а корреспондент газеты “Свенска Дагбладет” поинтересовался, понимают ли вообще сотрудники радиостанции, чью музыку передают. Главный редактор музыкальной программы ответил, что Цара Леандер в списки запрещенных артистов занесена не была, но, несмотря на это, у редакции были сомнения, и что ее песни были включены в программу по многочисленным заявкам слушателей. А поскольку ее фильмы стали показывать в нескольких берлинских кинотеатрах, у редакции не было причин не передавать ее песни…
Скорее всего, ее популярность объяснялась тем, что ее “голос, поющий только о любви”, звучал одинаково утешительно как для побежденных немцев, так и для советских оккупантов.
Симона Синьоре
Монро
Фрагмент из книги “Ностальгия уже не та” [15]
Перевод с французского Марии Зониной
Свою книгу она написала на излете жизни. Снималась она редко, хотя каждое ее появление по-прежнему становилось событием. Во Франции умеют ценить стареющих звезд. А Симона Синьоре всегда была больше, чем только кинозвезда. Для нескольких поколений зрителей она оставалась эпохальной женщиной, смелой и бескомпромиссной личностью, всегда находившейся в самом центре общественной жизни, неизменно приверженной левым идеям социальной справедливости и равенства. Не мудрено, что эта активная политическая позиция вначале приведет Синьоре в прокоммунистические круги, а позднее станет причиной ее остракизма со стороны советских властей, надолго наложившим запрет на ее имя. Обо всем этом с большой горечью она напишет в своей книге «Ностальгия уже не та», которая так и не была переведена на русский. Но одна из самых ее драматичных глав будет посвящена не политике, а любовной драме, главными героями которой стали ее муж Ив Монтан и Мэрилин Монро.
Сергей Николаевич
Августовским вечером 1962 года Монтан позвонил мне в Тулузу из Парижа, когда я ужинала с Коста Гаврасом и Клодом Пиното, – тогда они оба были первыми ассистентами Рене Клемана на съемках “Дня и Часа”. Я вернулась к столу и сказала им: “Мэрилин умерла”.
Я очень расстроилась. Но не удивилась.
Через полчаса директор отеля сообщил мне, что отказался предоставить номера парижским журналистам, которые спрашивали, где меня найти.
По сей день я не устаю благословлять этого человека. Благодаря ему я избежала участия в новом витке того ничтожного происшествия, которое пресса разобрала по косточкам за два года до этого.
Досадно, что журналисты, накинувшиеся на всех нас – Мэрилин, Монтана, Миллера и меня, только для того чтобы навязать нам роли, которые мы не учили, в пьесе, которую мы даже не прочли, – не видели, как мы провели вчетвером целых четыре месяца. Мы занимали соседние бунгало № 20 и № 21. Они не нашли бы там ни блондинки-разлучницы, ни красавца-соблазнителя, ни книжного червя, ни восхитительной супруги, замкнувшейся в гордом молчании, – ни одного из амплуа, приписанных нам прессой впоследствии.
Досадно и то, что Артур Миллер, к которому я испытывала самые теплые чувства, написал в один прекрасный день “После грехопадения”. Когда ее уже не было с нами.
Я не Норманн Майлер, поэтому расскажу о той Мэрилин, которую знала лично. Не о легенде и не о плакатной красотке. А о соседке по лестничной площадке, которая очень любила свою соседку по лестничной площадке. У нас с ней установились самые добрососедские отношения, как это случается во всех многоквартирных домах мира, роскошных и не очень.
Монтан первым возвращался со студии, принимал душ и яростно набрасывался на текст, который ему предстояло выучить к завтрашнему дню. Он запирался у себя в комнате и работал по крайней мере час до ужина.
Когда наконец возвращалась Мэрилин, то, как правило, обнаруживала нас с Артуром либо у себя, либо у меня дома – в этот час я обычно докладывала ему, как провела день, мы выпивали по стакану хорошего виски, и Артур, охотнее чем когда-либо, рассказывал истории из давнего и недавнего прошлого этой страны, которую я так плохо знала.
Она, будучи еще в гриме, говорила: “Сейчас приму ванну и присоединюсь к вам”.
Она возвращалась в коротком халатике цвета перванш в белый горошек из искусственного шелка. Босиком, без грима и накладных ресниц, она превращалась в очаровательную французскую пейзанку, из тех, что воспевают вот уже многие столетия.
Знаменитая светлая прядь, изысканная и жесткая, оттого что перед каждым новым планом парикмахерша Мэрилин зачесывала ее “против шерсти”, исчезала, зато снова появлялся завиток. Чудный кудрявый завиток, спадавший на лоб точно посередине.
Она ненавидела, презирала и боялась его. Боялась, потому что, как ни странно, корни этого завитка, пушистого, как у младенца, не поддавались окраске, в отличие от корней всех остальных волос на голове прекрасной блондинки. Поэтому спадавшая на глаза красивая прядь служила своеобразной защитой против непокорного корня, выдающего себя на крупных планах. Она сообщила мне об этом, как только мы поселились рядом. И добавила: “Смотри, они все уверены, что у меня красивые длинные ноги, а у меня узловатые колени, и вообще я коротконожка”. Я бы не сказала. Коротконожкой она не выглядела даже в халатике из местного универмага. А уж когда она преображалась в Мэрилин, то и подавно. В образе “Мэрилин” я видела ее три раза за четыре месяца. Первый раз, когда она собиралась на вечеринку к Спиро Скуросу, второй – когда мы вчетвером отправились ужинать в ресторан, и, наконец, когда она шла на вручение “Золотого глобуса”, единственной награды, которой ее удостоил этот город. Чтобы покрасить волосы в платиновый оттенок и расправиться с непокорным завитком, она за свой счет вызывала из Сан-Диего одну очень пожилую даму. Пожилая дама всю жизнь, пока не вышла на пенсию, занималась осветлением волос на студии “Метро-Голдвин-Майер”. Сан-Диего находится на границе с Мексикой. Именно там решила поселиться королева пергидроля. Она осветляла волосы Джин Харлоу в течение всей ее недолгой карьеры. Во всяком случае, по ее словам.