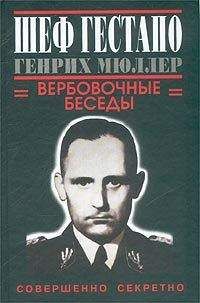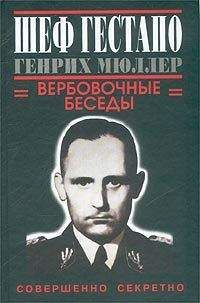Хилари Сперлинг - Матисс
Вне студии Матисс продолжал общаться со своим старым приятелем Марке и новым другом, совсем юным Шарлем Ка-муэном[56]. Они встречались в многолюдном баре «Солей д'ор» на левом берегу Сены или в тихом, довольно убогом тогда «Прокопе», где, заказав одну чашку кофе, можно было весь вечер сидеть и рисовать. Они брали свои альбомчики и отправлялись в цирк Медрано или дешевые мюзик-холлы Монмартра (в течение следующих тридцати лет Матисс время от времени будет писать танцоров, кружащихся в вихре фарандолы в «Мулен де ля Галетт»)[57]. Они рисовали велосипедистов, уличных прохожих, покупателей, извозчиков и лошадей, соревнуясь друг с другом, кто быстрее добьется сходства с оригиналом. Вместе они составляли забавное трио. Крепко сбитый, коренастый Матисс, набравший за последние годы изрядный вес, с профессорской бородкой и в очках в золотой оправе казался еще более степенным и серьезным в одной компании с похожим на гнома Марке и худощавым Камуэном, у которого едва пробились усики («длинноногому меланхолику» только исполнилось двадцать). Все трое были без гроша. Марке готов был продавать картины по двадцать су, а Матисс, как вспоминал Будо-Ламотт, однажды согласился отдать старьевщику на бульваре Распай три холста за пять франков. Краски Матисс покупал в кредит (поговаривали, что он задолжал торговцам чуть ли не четыре тысячи франков), а Марке и вовсе свел свою палитру к самыми дешевым: белой, коричневой и изумрудно-зеленой.
День, когда он наконец смог раскошелиться на тюбик кадмия, стал для него великим днем[58].
Летом и зимой, год за годом все трое носили одни и те же потрепанные костюмы из дешевого вельвета. Матисс регулярно закладывал свои часы (у Марке их украли) и пальто. Платить профессиональным натурщикам в студиях Камилло или Коларосси они не могли, поэтому им не оставалось ничего иного, как только рисовать прохожих или артистов мюзик-холла. Матисс хотя бы занимался в классе Каррьера бесплатно, поскольку согласился стать казначеем (вел книгу учета, собирал плату за обучение и вдобавок присматривал за печкой). Никакой работы найти не удавалось. Марке вспоминал, как после вечерних занятий они сидели с Матиссом на ступеньках перед домом номер 19 по набережной Сен-Мишель и говорили, говорили, силясь найти выход из совершенно безвыходной ситуации. Вместе они попробовали составить список потенциальных работодателей и несколько дней подряд обходили каждый адрес, колеся по городу на омнибусе, но чаще шли пешком, по щиколотку утопая в грязном растаявшем снеге. В конце концов им удалось наняться на временную работу оформителями в мастерскую театрального декоратора Марселя Жамбона.
За девятичасовой рабочий день в холодном, насквозь продуваемом бараке на улице Сакрестан на северной окраине Парижа, где приходилось, согнувшись в три погибели, расписывать расстеленные на полу холсты («словно камнетесы, дробившие камни»), платили девять франков — франк в час. Анри поручили исполнить фриз из лавровых листьев для одного из залов Grand Palais — только что построенного для Всемирной выставки 1900 года Большого дворца на Елисейских Полях. Матисса угнетала не столько работа, тяжелая и механическая, сколько убогость его напарников — безработных официантов, посыльных и просто бездомных. Из-за очков в золотой оправе все называли его «доктор» и однажды даже пытались пригласить осмотреть рабочего, получившего производственную травму. Довольно скоро Матисс стал заболевать: его начал бить озноб, а из носа потекло — типичная с детства реакция на перенапряжение. Спустя три недели его уволили «за неподчинение».
Молодым супругам ничего не оставалось, как вернуться в Боэн, поскольку Амели летом должна была родить. Пьер Луи Огюст родился 13 июня 1900 года в доме своего дяди Огюста, в честь которого и был назван. Матиссы погостили в Боэне совсем недолго. Хотя мать тепло отнеслась к невестке, Анри чувствовал себя в родительском доме ужасно. Друзья детства все как один преуспевали, брат Огюст процветал (он заправлял делами в отцовской лавке и собирался жениться на дочери торговца зерном из Сен-Кантена), а он сам как был, так и остался жалким неудачником. Между их миром и миром, в котором жил он, не было ничего общего. Матисс не мог больше оставаться здесь ни дня, и они с Амели вернулись в изнывающий от зноя Париж.
Друзья Анри знали о его личной жизни немного. Между собой они жалели его жену: двое малышей на руках, магазин, а муж целыми днями пропадает то запершись в мастерской, то в мюзик-холле на Монмартре. Однако Амели не роптала: целеустремленность Анри, покорившая ее с первой встречи, оставалась для нее самой привлекательной его чертой. По сути, их брак представлял собой довольно необычное партнерство: он занимался живописью, а она обеспечивала «тылы», позволяя мужу спокойно творить. Они обитали в крохотной мансарде над шляпным магазином на улице Шатоден, прислуги у них не было, и никто, кроме шестилетней Маргерит, Амели не помогал. Заботу о муже она считала главным своим предназначением и готова была жертвовать ради него всем. Едва только хлопоты с детьми начали угрожать ее главной обязанности — быть женой Матисса, мальчиков немедленно отправляли к бабушкам с дедушками. «Северная» бабушка брала на себя Жана, а Пьер подолгу гостил у Парейров на Юге. Обоих мальчиков крестили в Боэне 20 января 1901 года (с согласия ли или без ведома их безбожника отца — неизвестно). Дедушка Ипполит Анри Матисс и бабушка Катрин Парейр стали крестными родителями двухлетнего Жана, а дядя Огюст Матисс и тетя Берта Парейр — семимесячного Пьера.
С одобрения Амели Анри прекратил поиски работы. После того как его выгнал Жамбон, он стал относиться к неприятностям философски и считал все происходившее с ним не более чем абсурдом; придумывал всевозможные розыгрыши и дурачился, как только мог. Однажды, например, на потеху прохожим разыграл драматическую сцену: Амели якобы дралась с Дереном, тело которого сбрасывали в Сену (на самом деле жертву изображал облаченный в профессорское одеяние манекен, позаимствованный в Школе изящных искусств). В другой раз разыграли консьержку, хамство которой бесило Матисса. Хитрость заключалась в том, чтобы создать у мадам впечатление нескончаемого потока гостей, направляющихся на верхний этаж дома на набережной Сен-Мишель, 19, где, разумеется, никакого многолюдного приема не было. Сначала гость интересовался, как пройти в мастерскую Матисса, затем поднимался наверх, где весельчаки быстро менялись шляпами и пиджаками. Затем кто-то взбирался на крышу и через чужое окно проникал на пятый этаж соседнего здания, спускался вниз и как ни в чем не бывало представал перед ошарашенной консьержкой в качестве вновь прибывшего. Вспоминая то время, Матисс прекрасно понимал, что за всеми этими выходками скрывалось чувство обиды, холода, голода и собственной ущербности, незнакомое благополучным буржуа: «В своей профессии у нас не было перспектив. Поэтому мы и развлекались, как могли… Шутить, разыгрывать комедию, высмеивать окружающих — что нам еще оставалось. Художники? Да разве мы могли рассчитывать, что когда-нибудь сможем продать хоть что-то? Имелся единственный выход пробиться — получить Римскую премию. Художники? Художники были пропащими людьми». Не менее вызывающе вел себя Матисс в 1900 году в классе Каррьера (Матисс потом сам говорил, что выходки его были возмутительны), и в конце концов мэтр его выгнал. Все повторялось: Матисс, как и в год приезда из Боэна в Париж, вновь оказался в ловушке, чувствуя себя «заблудившимся в лесной чаще». С отчаяния он записался на бесплатные вечерние курсы в муниципальную Школу ремесел на улице Этьен Марсель, где впервые попробовал лепить. Он начал копировать гипсовый слепок с бронзы Бари «Ягуар, пожирающий зайца»[59]. Сражение с глиной помогало сосредоточиться и «навести порядок в голове». Копия «Ягуара» Бари, с которого обычно начинают оттачивать мастерство студенты-скульпторы, стала для него своего рода самоанализом. Матисс превосходно знал анатомию — в Школе изящных искусств он посещал курс профессора медицинского факультета Матиаса Дюваля. Памятуя советы Дюваля «работать, руководствуясь лишь своими ощущениями», Матисс именно так и лепил своего ягуара — вслепую, опираясь исключительно на одно осязание, на ощупь (у него был только скелет кота, позаимствованный в классе анатомии Школы изящных искусств). Матисс говорил, что ему нравилось лепить: через пальцы он передавал свои эмоции глине. Чувства, которые он вложил в своего «Ягуара», изогнувшегося над распластанной добычей, как нельзя точнее передавали ощущения его самого, пытавшегося вырвать из изящной скульптуры Бари то, что ему тогда требовалось.