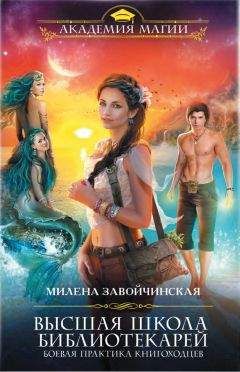Владимир Катаев - Чехов плюс…
Стоит вспомнить также отрицательное отношение к сатире такого выразителя умонастроений эпохи, как В. В. Розанов. Для него, как и для его идейных единомышленников, имя Щедрина также стало символом, но уже обратной значимости. «…В круге людей нашего созерцания считалось бы невежливостью в отношении ума своего читать Щедрина. За 6 лет личного знакомства со Страховым я ни разу не слышал произнесенным это имя. И не по вражде. Но – «не приходит на ум"».[145] Предчувствуя роковые последствия того разрушения, которое могло ожидать существующий в России строй, Розанов возлагал вину за грозящий (а потом осуществившийся) апокалипсис на критически-обличительные тенденции русской литературы, начало которых он вел от Гоголя. «После Гоголя, Щедрина и Некрасова совершенно невозможен никакой энтузиазм в России. Мог быть только энтузиазм к разрушению России».[146]
Правда, уже перед смертью Розанов скажет: «Щедрин, беру тебя и благословляю».[147] И к Щедрину также относятся его слова, обращенные к Гоголю: «Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в своей полной истине». Но здесь мы говорим об отношении Розанова к литературе «отрицающей» в эпоху рубежа XIX и XX веков.
И Менделеев, и Розанов, хотя и с разных позиций, выразили неблагоприятные для социальной сатиры умонастроения части русского общества. И это уже не внешние, цензурные, а внутренние, связанные с общественной психологией препятствия для ее полнокровного существования.
Но причины неизбежной трансформации русской сатиры (в ее классических, щедринских, формах) в послещедринскую эпоху не исчерпываются сказанным.
3
Отношение к сатире (щедринского типа) творчества крупнейшего писателя эпохи Чехова дает немалый материал для суждений о путях развития сатиры на рубеже веков и о щедринских и нещедринских ее формах.
Чехов – по складу своего таланта один из гениев мировой юмористики – вступив в начале 80-х годов под знамена «Стрекозы», «Будильника» и «Осколков», хотел сперва честно, со всей ответственностью служить задачам, которые время ставило перед «пишущими по смешной части». «Мы» в чеховской сценке «Марья Ивановна» – одном из немногих теоретических самовыражений писателя – относилось и к Лейкину, и к самому Чехову, который не отделяет себя в это время от остальных собратьев по юмористическому стану: «Хотя она (юмористическая литература. – В. К.) и маленькая и серенькая, хотя она и не возбуждает смеха, кривящего лицевые мускулы и вывихивающего челюсти, а все-таки она есть и делает свое дело. Без нее нельзя. Если мы уйдем и оставим поле сражения хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой! Стало быть, я должен писать <…>. Должен, как могу и как умею, не переставая».[148]
И, как лучшие из «осколковцев», Чехов не мог пройти мимо щедринского воздействия.
Обычно сатирические мотивы в юмористике Чехова возводят прямо к традициям Салтыкова-Щедрина. Действительно, щедринское творчество, в частности его произведения 80-х годов, оказывало и непосредственное влияние на молодого Чехова. Об этом говорят и восхищение Чехова щедринской сказкой «Праздный разговор» (П 1, 198), и его итоговая оценка Щедрина в письме к Плещееву (П 3, 212–213); наконец, тот факт, что некоторые вещи Чехова в «Осколках» казались Лейкину, как, можно полагать, и другим современникам, «щедринскими» по сатирической заостренности. Но, как было сказано выше, нельзя недооценивать опосредующее звено между Чеховым-юмористом и «большой» русской сатирой. Таким опосредующим звеном и была «осколочная» сатира: сборники Лейкина конца 70-х – начала 80-х годов и осколочные «мелочишки» Билибина.
В овладении щедринской манерой, известной стилизации «под Щедрина» молодой Чехов был не одинок: по этому же пути шли в 1883–1884 годах и другие сотрудники «Осколков». Поэтому неточно утверждение о том, что Чехов наследовал традиции большой русской литературы, в том числе традиции Салтыкова-Щедрина, вопреки «среде Лейкина и Билибина», независимо от нее.[149] В общем масштабе творчества Чехова «щедринские» стилизации приобретают особый смысл. Непродолжительность «щедринской полосы» в творчестве Чехова, с одной стороны, и Лейкина и Билибина, с другой, объясняется принципиально различными причинами; но следование за Щедриным не было привилегией одного Чехова: в этом как раз сказался дух избранной им литературной среды.
Оговорки исследователей о том, что сатирические миниатюры молодого Чехова не достигали подлинно щедринских глубины и размаха[150], разумеется, справедливы. Но не следует упускать из виду закономерность творческого развития Чехова, которая и в разгар щедринских влияний позволяет видеть в нем писателя со своей главной темой, идущего своим путем. Щедринская манера письма была не «чужда»[151] творчеству Чехова, а нашла в нем строго ограниченное применение. Здесь следует говорить не о подражании и не о соревновании, а о стилизации.
Прибегая в отдельных произведениях к щедринской манере, создавая произведения и отдельные образы в духе Щедрина, Чехов творчески осваивал один из наиболее близких ему идейно вариантов отношения к действительности. Но исключительного следования по этому пути у Чехова никогда не будет; столь же блестяще он овладеет и иными традициями, представлявшимися Чехову иными «правдами» в искусстве и жизни. Это проявится уже вне юмористической сферы его творчества.
Не будем забывать, что вовсе не одна юмористика была колыбелью чеховского творчества. Оказавшись волею судеб в стане «завсегдатаев юмористических журналов (непременных членов по юмористическим делам присутствия)» (2, 451), Чехов одновременно пытался найти себя в далеких от юмористики областях. Уже до начала работы в «Осколках» он был автором серьезной драмы в четырех действиях; одновременно с юмористическими мелочишками он пробовал себя в рассказах типа «Живой товар», «Цветы запоздалые», а затем не только в детективно-пародийной, но и социально-психологической «Драме на охоте».
И в сценках Чехова очень рано появляются ноты, заставлявшие Лейкина, который думал найти в московском студенте своего ученика и последователя в юмористике, недоумевать и предостерегать от нарушений чистоты жанра. А Чехов, пославший в «Осколки» своих «Вора» и «Вербу», ответит, что он и не думает держаться «рамок в пользу безусловного юмора»: «Упаси Боже от суши, а теплое слово, сказанное на Пасху вору, к<ото>рый в то же время и ссыльный, не зарежет номера. (Да и, правду сказать, трудно за юмором угоняться!.. Иной раз погонишься за юмором да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет. Поневоле в область серьеза лезешь)» (П 1, 67). А поэт Л. И. Пальмин, посылая в «Осколки» свое стихотворение «Июньская ночь», жаловался Лейкину: «Ты как-то злобно преследуешь красоты природы и скажешь, что тут нет никакой сатиры».[152] Действительно, теплота, лиризм, описания природы – все это казалось редактору «Осколков» чем-то ненужным и опасным для «определенности физиономии» журнала.