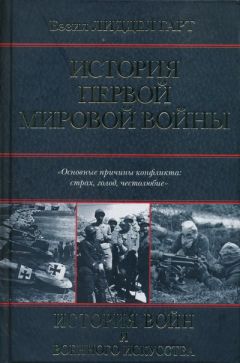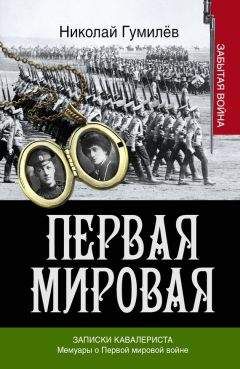Иосиф Кунин - Римския-Корсаков
Теперь все это — произведения Глинки, Бородина, Мусоргского, Балакирева и других — надо перенести на публику. Завоевав уважение оркестра, завоевать любовь этой таинственной особы.
Громадный, вмещающий более пяти тысяч слушателей зал выставочного дворца Трокадеро наполовину пуст: большинству слова «русская музыка» мало что говорят, а на рекламу гордый Беляев не израсходовал и гроша. Отсутствуют и праздношатающиеся русские парижане, не угадывающие, что отечественная музыка станет со временем величайшей гордостью русской земли. Зато налицо передовые музыканты, все, кому противна рутина, кто ищет возрождения музыки у незамутненных ключей, у глубоких корней народного искусства. Под управлением Корсакова одна за другой исполняются оркестровые пьесы, в большинстве своем еще никогда не звучавшие в Париже. Особенный успех имеют произведения восточного характера: «Половецкие пляски» и «В Средней Азии» Бородина, «Антар» Римского-Корсакова. Жаль, нет среди живых Сальвадор-Даниеля: он расстрелян версальцами вместе с другими участниками Парижской коммуны в мае 1871 года. Мелодия, когда-то записанная им в Алжире, вернулась теперь во Францию в новом наряде — как музыкальный образ сказочно-прекрасной пери Гюль-Назар, подруги Антара. В этой светлой неге, в этой свободной грации танца по-иному, чем в первобытной мощи и диком одушевлении половецких плясок, воплотилось нечто гораздо большее, чем пряная экзотика. Молодые французские композиторы, с энтузиазмом аплодировавшие «Антару», хорошо почувствовали органическую враждебность музыки Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова прозе буржуазного быта и пошлости буржуазного искусства. Здесь пробились из земли источники, которые утоляли их жгучую жажду.
«Молодая французская школа и Новая русская школа сразу узнали друг друга и побратались», — писал выдающийся музыковед, тогда еще молодой критик, Жюльен Тьерсо. «Я думаю, — проницательно добавлял он, — что той и другой принадлежит будущее». Еще никому не ведомый, присутствовал в зале Клод Дебюсси. Затерянный в толпе, впервые слушал русскую музыку четырнадцатилетний Морис Равель. Каждый из них отозвался годы спустя на эти впечатления.
«Это не дебют русской музыки, а ее торжество!» — заявил с глубоким удовлетворением постоянно живший в Париже славный ваятель М. М. Антокольский. Отзывы в печати были почти единодушно восторженны. При отсутствии кассового успеха налицо был успех художественный. Э. Колонн пригласил Корсакова продирижировать двумя концертами весной будущего года. И хотя намерение Колонна не осуществилось, зато в следующем году под управлением русского композитора состоялся концерт в Брюсселе почти с той же программой, имевший решительный успех. Медленнее, чем литература, но не менее глубоко русская музыка входила в культурный обиход Франции и стран ее «сферы притяжения». Парижские концерты 1889 года были в этом отношении событием исторического значения.
СКАЗКИ ШЕХЕРАЗАДЫ
Среди сочинений, показанных в 1889 и 1890 годах, не было того, которому в дальнейшем предстояло стать самым известным и любимым из оркестровых произведений Корсакова. Не было «Шехеразады». Сейчас она не сходит с концертных эстрад Франции, Арабского Востока, Англии, Германии и Америки. А между тем ко времени концертов в Трокадеро она уже существовала, исполнялась и даже одобрялась Глазуновым, хотя не совсем одобрялась тем, кому была посвящена, — Стасовым.
Первая мысль о ней, по-видимому, возникла у композитора еще зимой 1887/88 года, среди работ над «Князем Игорем» Бородина. Вполне возможно, что заунывно-чарующие напевы половецкой девушки, так полно выразившие томительную прелесть бескрайной, солнцем выжженной степи, пробудили в его сознании образ иной музыки, более утонченной и узорчатой, образ Востока арабских сказок, уже раз пленивший композитора. Много воды утекло за эти двадцать лет после «Антара», прибавилось мастерства и опыта, убыло веры в свои силы.
Летом 1888 года в Нежговицах под Лугой зимние мысли оттаяли и пошли в рост. Корсаков был невесел. Писать он себя заставлял и ничего особенно хорошего от «Шехеразады» не ждал. «Сначала шло туго, — признавался он Глазунову, — но потом пошло довольно скоро и, во всяком случае, хотя бы и призрачно, но наполнило мою скудную музыкальную жизнь». Смутное стеснительное чувство шевелилось в нем. Ему не захотелось показывать свое произведение даже самым близким друзьям, даже Глазунову. Они услышали «Шехеразаду» только на репетициях Русских симфонических концертов.
Ромен Роллан как-то заметил, что искусство не всегда отражает жизнь художника, нередко оно восполняет то, чего не хватает в действительности. К сказкам Шехеразады это имеет прямое отношение. Уже в караван-сараях и кофейнях Каира или Дамаска волшебные рассказы о диковинах южных морей, о потаенных сокровищах, девушках дивной красоты, таинственных дворцах и могущественных духах — джиннах уносили воображение слушателей далеко от невзгод и тревог повседневного бытия. Их сказители были не только поэтами и несравненными повествователями. Они были зодчими и живописцами. Они воздвигали великолепные здания, украшали их бесценными мозаиками и коврами, населяли их отважными молодыми красавцами и коварными искусителями. Появившись в начале XVIII века во Франции в свободном переложении А. Галлана, переведенном затем на главные европейские языки, сказки «1001 ночи» стали для Запада выражением самого духа восточной фантазии и поэзии. Ирвинг и По, Гауфф и Гюго, Сенковский и Уайльд пленили новых читателей отблесками и переливами огня, зажженного легендарной рассказчицей, прекрасной и мудрой Шехеразадой. Но еще ближе, чем стихам и романтической прозе, этот дух был родствен музыке. Летом 1888 года, в пыльной атмосфере российской действительности, отображенной и заклейменной Чеховым, под пером усталого, обремененного заботами профессора консерватории возникло творение, благоуханное и сверкающее, как росинка на лепестке розы, — симфоническая сюита по сказкам «1001 ночи».
С «Шехеразадой» соединялись у композитора глубоко личные переживания. Согрет теплом сердца и несет частицу авторской души мотив сказительницы, пронизавший и скрепивший все четыре части. Чуть печальный, задумчивый ее напев звучит в светлом высоком регистре скрипки, всегда одной, всегда одинокой. И тем же чувством окрашены незабываемые картины теплого моря, то любовно покачивающего корабль на волнах, то грозно-взмятенного. Они возникают сразу после вступления. Вся первая часть — морская, и теми же солеными брызгами окроплен заключительный раздел финала. Ослепительно синими, темно-сапфировыми маринами окаймил композитор всю пьесу. Юношеское воспоминание о плавании под южными звездами сгустилось в музыкальный образ. Но таково волшебство гармонии, такова сила филигранно тонкой игры тембрами, что морской пейзаж «Шехеразады» и скользяще-легкое движение корабля в голубую даль стали таинственными и необычайными, стали первым из чудес старинной сказки.