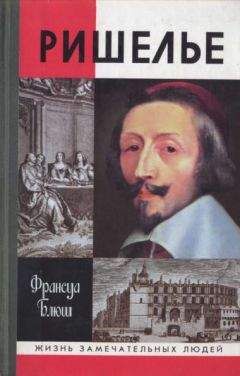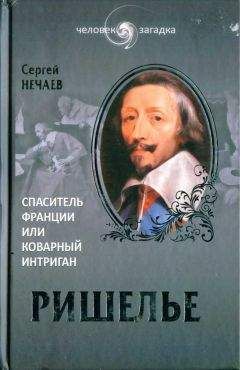Андрей Сахаров - Степан Разин
Потом Емельян показал еще один «знак» — шрам на левом виске, прикрытый волосами (следы от золотухи, может быть).
— Что это там, батюшка? — спросил Шигаев. — Орел, что ли?
— Нет, друг мой, это царский герб.
— Все цари с таким знаком родятся или это после божиим изволением делается?
— Не ваше это дело, други мои. Простым людям этого ведать не подобает.
Казаки испугались и поклонились Пугачеву:
— Теперь верим и признаем в вас великого государя Петра Федоровича.
— Ну, когда признаете меня за государя, так обещайтесь за все Яицкое войско мне не изменять и никому в руки живого не отдавать. Напротив того, и я дам клятву любить вас и жаловать. Сберегите меня, детушки. Если господь допустит меня в свое место (то есть на престол. — В. Б.), так я вас не забуду и буду жаловать, как первые монархи. Я сам вижу, что вы, бедные, обижены и разорены, потерпите до времени.
— Хотя мы все, казаки, пропадем, — с волнением, но твердо произнес Шигаев, — но вас, батюшка, не выдадим. А буде не удастся, так выведем тебя на степь и пустим, а в руки не отдадим.
— Ну, друзья, не забудьте же своего слова и будьте мне верны!
— Надейтесь на нас, батюшка, крепко, — говорили все четверо, — мы вас не выдадим.
Достали медные складни (походные иконы), и, став на колени, казаки дали присягу:
— Обещаемся перед богом служить тебе, государь, во верности до последней капли крови. И хотя все войско Яицкое пропадет, а тебя живого в руки не отдадим.
Пугачев, тоже на коленях, присягнул:
— Обещаюсь и я перед богом любить и жаловать Яицкое войско так, как и прежние цари. И буду вас жаловать рекою Яиком и впадающими во оною реками и притоками, рыбными ловлями, землею, сенокосными покосами и всеми угодьями безданно и беспошлинно. И распространю соль на все четыре стороны; вези кто куда хочет. И оставлю войско Яицкое при прежней их вольности.
Договор был заключен. Снова заговорили об изготовлении «хорунгов» (знамен), одежды для «императора». Зарубин и Шигаев заспорили, кому ехать в городок за всем этим, «взять на руки», то есть охранять, беречь, «государя». Пугачев взял сторону Чики, который резонно заметил, что на хуторе Шигаева многолюдно («к тебе на хутор много людей ездит»), и это решило дело:
— Нет, чадо мое, — Пугачев обратился к Шигаеву, — поезжай-ка ты с Караваевым в городок, и исправьте все, что я говорил, а Чику и Мясникова я оставлю при себе. Они повестят вас о месте, куда войску собраться.
Так было положено начало приближению Зарубина к особе «императора». Решающую роль сыграло то, что Чика, несмотря на свои нынешние и более поздние колебания (он видел, что Пугачев никакой не император, а казак, как и он сам), твердо решил примкнуть к начинавшемуся движению. Во время перемолвки с Шигаевым он говорил Емельяну Ивановичу:
— А я, батюшка, возьму тебя на свои руки; и не опасайтесь ничего, я все здешние места знаю. Ведь я сюда для того приехал, чтобы за тобою следовать.
Чика уже, оказывается, приготовил место, где прятать самозванца. От других казаков он это скрывал. С умета они туда и направились. Емельян приказал Чучкову тоже покинуть умет, куда вот-вот могла нагрянуть команда, чтобы арестовать всех, кто был связан с Пугачевым и Оболяевым. По его совету они поехали на Узени — место в степи, по которому близко друг от друга протекали две узкие речки; между ними помещались неширокая полоса земли, местами островки, заросшие густым камышом; в них можно было надежно спрятаться.
По дороге на хутор братьев Кожевниковых (верстах в 55 от городка, на реке Малый Чаган), куда ехали спутники, Пугачева брали мучительные сомнения: примут ли его казаки? Ведь и Зарубин, несмотря на все заверения, не уверен, что он император; Емельян это чувствовал, понимал. Неужели впереди опять арест и тюрьма, жестокое наказание и ссылка? А то и хуже?..
— Ваш старшина Иван Окутин, — завел беседу помрачневший Пугачев, — должен меня знать. Он, я чаю, не забыл, как я жаловал его ковшом и саблей. Только, братцы, как вы думаете, согласны ли будут принять меня к себе ваши казаки?
— Не знаем, Ваше величество, примут ли, — говорил Чика и Мясников, — однако мы всячески постараемся преклонить их на свою сторону.
— Дед мой, покойный император Петр I, в чужих землях странствовал семь лет, а меня бог привел постранствовать двенадцать.
Спутники его молчали. На душе у Емельяна стало тоскливо, кошки скребли. Версты за две до хутора они остановились, и Чика поехал поговорить с хозяином. Еще не стемнело. Опасаясь постороннего взгляда, Пугачев и Мясников спрятались в лощине. Вечером подъехали к хутору. Их встретил старший из братьев, Андрей. Младший, Михаил, оробел при виде гостя, хотя тот, в своем верблюжьем армяке и крестьянской толстой рубахе, походил «во всем на русского мужика». Здесь же на лавочке сидел отставной казак старик Роман Шаварновский, живший здесь же, у Кожевниковых, в отдельной избе. Михаил явно сомневался в Пугачеве, и тот прошел к Шаварновскому. Емельян снова рассказывал, как его освободил караульный офицер Маслов, как он странствовал, как его арестовывали. Свое повествование заключил словами:
— Хотя в писании и сказано, чтобы мне еще с год не являться, но я принужден явиться ныне для того, что не увижу, как вас всех у меня растащат. Вы держитесь за мою правую полу; и если не отстанете, то будете люди и станете жить по-прежнему. Если ныне меня не примете, я себе найду место, а вы тогда уже на меня не пеняйте. Когда хотите, то ныне помогите; я — подлинный государь Петр III.
Чика и Мясников уехали в Яицкий городок — объявлять надежным людям о «царе», поискать писаря, купить кое-что для Емельяна. Последний сидел безвылазно в избе Шаварновского, оберегавшего его от всех, даже от Кожевниковых, не поверивших в «истинность» «государя». Старший из них, увидев Пугачева, сразу определил, что тот — лицо подставное. Он уехал в городок, встретил Шигаева и жаловался ему:
— Как нам быть, Максим Григорьевич? Вор Чика навязал нам на шею такую беду, что мы не знаем, что и делать!
— Как же это? — Шигаев делал вид, что он ничего не знает. — Зачем он к вам его привел? Ведь он взял его на свои руки!
Жаловался Андрей и свояку — Ивану Харчову. А на хутор меж тем приезжали другие казаки, разговаривали с самозванцем. Они верили ему, и по хуторам и зимовьям ширилась молва о «батюшке». Пугачев сочувствовал казакам, сетовал на их печали, говорил:
— Когда настоящего пастыря не станет, народ всегда пропадет…
Ситуация была еще неясной. Не все верили в «государя», и Пугачев это сознавал. Те, кто верил или делал вид, что верит, смущались, наблюдая, как другие уклонялись от разговоров о «царе», отмалчивались, отводили в сторону глаза, как братья Кожевниковы. Чика, приехав в городок, направился к Караваеву. Червь сомнения не оставлял и его, точил душу: