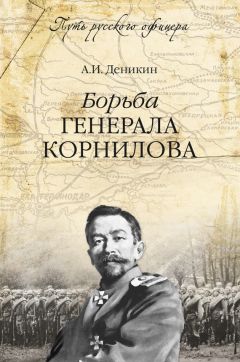А. Солнцев-Засекин - Побег генерала Корнилова из австрийского плена. Составлено по личным воспоминаниям, рассказам и запискам других участников побега и самого генерала Корнилова
При уже подчеркнутом мною различном понимании воинской этики и различном толковании ее требований ясно, что в числе слухов, распространившихся в концентрационных лагерях по поводу несуществовавшего столкновения генерала Корнилова с эрцгерцогом Фридрихом, были такие, которые сам Корнилов считал оскорбительными для себя, хотя их и не считали такими повторявшие их офицеры и солдаты.
Все это нервировало Корнилова и угнетало. Мне кажется, что настроения этого времени бессознательно воспитали или углубили в нем ту несомненно несколько несправедливую и предубежденную враждебность к немцам и всему немецкому, которую в нем можно было подметить. Если он был чересчур крупным человеком для того, чтобы эта предубежденность стала в нем смешной, то он все же не мог освободиться от нее, да это и было бы неестественным и психологически невозможным после всех обстоятельств его плена.
После описанного столкновения Корнилова и подполковника Машке режим, введенный Машке по отношению к Корнилову, сделался почти невыносимым. К счастью для Корнилова, Лек все же был «штаб-офицерским», то есть несколько привилегированным лагерем, что до известной степени как бы психологически связывало подполковника Машке.
Может быть, это странно звучит, но размер произвола коменданта как бы предопределялся самым типом лагеря. Это и не было прямым распоряжением австрийского командования, но это было психологической неизбежностью; размеры произвола коменданта и тип лагеря как бы логически происходили один из другого…
После столкновения с подполковником Машке слежка за Корниловым естественно должна была усилиться.
У Корнилова был в Леке денщик – Дмитрий Цезарский, или Цесарский (фамилия его в разных документах была написана различно), происходивший из Симферополя или – не помню сейчас хорошо – только имевший в этом городе маленький фруктовый киоск. Этому денщику австрийское командование обещало платить сравнительно крупную сумму, чтобы он доносил о каждом подозрительном шаге Корнилова. (Я, кажется, забыл ранее упомянуть, при описании условий жизни в плену, что во всех не смешанных концентрационных лагерях, то есть в тех, которые предназначались исключительно для офицеров, к последним назначались австрийским командованием денщики из числа пленных солдат – по одному на группу в четыре-шесть обер-офицеров и на каждых двух штаб-офицеров, военнопленным же генералам полагался каждому отдельный денщик.)
Так как в почти всех лагерях у военнопленных [есть] благожелатели или подкупленные среди австрийских солдат, то генералу Корнилову немедленно стало известно о сделанном Цезарскому предложении, и он прямо сказал об этом Цезарскому, смотря ему в глаза:
– Я – русский генерал. Я должен бежать из плена. Буду пытаться бежать. Рано или поздно – я бегу. Знай это… Если ты – русский солдат – можешь предать и продать своего генерала – продай меня!
Корнилов знал русского солдата и знал, как нужно говорить с ним. Он не был таким блестящим оратором и стилистом, как, например, генерал Деникин, и часто говорил, что ему сравнительно трудно сказать речь к солдатам, но легко разговаривать с ними.
Цезарский упал на колени.
– Ваше превосходительство! Пусть меня расстреляют австрийцы – я вас не выдам! И я буду помогать бежать Вашему превосходительству.
И после этого не было уже ничего, что могло бы сломать преданность Цесарского. Он был предан Корнилову, как собака – отзывался о нем другой человек, жертвовавший за Корнилова своею жизнью, чех Франц Мрняк. Обожание Цесарским генерала Корнилова бросалось в глаза при первом взгляде – своею жизнью и смертью в каземате австрийской крепости Цесарский доказал свою верность воинскому долгу и присяге своему любимому вождю.
Тяжесть пребывания Корнилова в Лека и трудность побега из этого лагеря увеличилась еще тем, что у Корнилова сложились обостренные отношения с некоторыми из военнопленных офицеров лагеря. Заранее можно было предвидеть, что такие отношения должны были возникнуть между ним и одной, хотя небольшой численно, но сплоченной и деятельной группой.
Дело в том, что неустанная и планомерная агитация революционно-пораженческого и сепаратистского характера, которая с самого начала войны велась среди военнопленных, не могла не сказаться. Некоторые офицеры и солдаты становились платными агентами австрийской и германской лагерной комендатуры. Они получали вознаграждение под видом денежных переводов и посылок якобы получавшихся ими от родственников от России.
Получали ли они кроме этих сравнительно небольших выдач более крупные суммы, которые не могли быть выдаваемы им в лагерь, чтобы не обнаружить их, или продавали Отечество за гроши – я не имею возможности сказать. Архивы военных министерств могли бы дать иногда интересные ответы на вопрос, сколько стоит человеческая совесть.
В числе таких агитаторов было много солдат из числа более или менее интеллигентных, рискнувших при пленении самозвано выдать себя за офицеров, чтобы находиться во время плена в более привилегированном положении. Когда такое самозванство разоблачалось (чаще всего, благодаря случайным встречам), лагерная комендатура обычно ставила условием дальнейшего содержания таких самозванцев на офицерском положении согласие вступления на агентурную службу агитатором или шпионом, а иногда и тем, и другим вместе. Разоблаченного в одном лагере самозванца переводили после этого в другой лагерь, где его еще не знали. Благодаря тому, что военнопленные офицеры вообще переводились иногда из одного лагеря в другой, в особенности после побегов, то часто случалось, что самозванцев разоблачали снова и снова, и им приходилось кочевать из лагеря в лагерь. В отношении таких самозванцев австрийское командование иногда оказывалось очень неразборчивым и брало совершенно не подходящих людей.
Так, в Эстергом-таборе во время моего пребывания там был разоблачен один самозванец, выдававший себя за военного врача и бросавшийся в глаза невежеством и тупостью совершенно исключительными, и что же? Лагерное командование перевело его даже не в другой лагерь, а в госпиталь для военнопленных, где с первого же дня больные, попадавшие к нему на осмотр, стали высказывать сомнения коменданту госпиталя в медицинских знаниях лжеврача; комендант отказывался даже выслушивать эти заявления, пока вновь поступивший в госпиталь раненый офицер не опознал в лжевраче санитара своей роты, и лжеврача только перевели снова в лагерь – понятно, опять новый.
В другой раз я был свидетелем, как самозванец, выдававший себя за офицера Донского казачьего войска… не знал даже цвета лампас своего войска. Он всплыл после этого в другом лагере, но уже под видом армейского прапорщика.