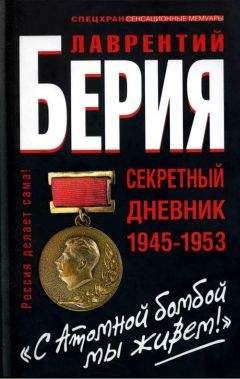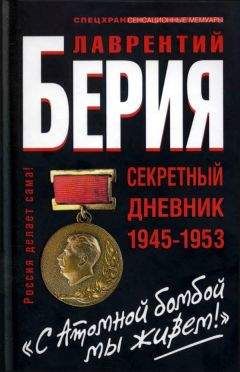Тамара Катаева - Другой Пастернак: Личная жизнь. Темы и варьяции
Пастернак очень любил, когда предметы проявляли при нем свои лучшие свойства – гром гремел очень громко, кастрюли блестели ярко. Зинаида Николаевна была ему по вкусу. Любовь норовит угнездиться в самом слабом, незащищенном месте. Потому что туда либо никого не пускали, либо, как в случае Пастернака, – там никого не было. Евгения Владимировна сидела совсем в другом месте, там, где ее не ждали, где никого Пастернаку нужно не было, где никакой самоутверждающейся, амбициозной, стремящейся что-то завоевать женщины ему не недоставало. Но Женя уже была, Пастернак как мог по-мужски устраивал свой быт (и Женин, и Жененка). А оказывается, какой малости не хватало – женщины, которая чистит кастрюли. И при этом – улыбается. И играет на фортепьяно – по-настоящему! Неудивительно, что Женю выперло, выбило из его жизни, как пробку из бутылки шампанского в свадебный день.
Был ли при всем при том Генрих Нейгауз гением? До той степени приближения, которая достаточна, чтобы влюбиться в его жену. Пастернак любил его всю жизнь, восхищался, дружил, был даже практически влюблен, под конец жизни насмешничал и был, конечно, не презрителен, но подчеркнуто снисходителен – это в те годы, когда и собственный гений Бориса выгорел дотла. Жизнь проживаешь, расходуя что-то. Они оба стали подрастратившимися старичками. А что было в тридцатые годы? Борис выхватывал из воздуха сгущавшиеся в нем слова, Нейгауз переселялся, становился Шопеном. У Шопена ведь других шансов заставить в себя поверить не было. Вот они и кружились – Шопен с Пастернаком. Кому по чину была Зина? К кому сердце легло.
Мы сейчас – о «Крейцеровой сонате».
«А как замечательны последние сонаты Бетховена, особенно „fur Hammer Klavier“, который мы тут слышали!». Написано 11 сентября 1930 года в Ирпене.
БОРИС ПАСТЕРНАК. Письма к родителям и сестрам. Стр. 501. Может, сами сонаты были не так уж и хороши?
Пели птицы и бегали по лесным дорожкам под ногами.
«Имежду ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств» (ТОЛСТОЙ Л. Крейцерова соната).
Кроме красот природы, которые доставались только им одним, и удодов, летящих только для их компании, природные явления – причем очень чувствительные, осязаемые – фокусировались на них при стечении публики, и становилось очевидно, что ОНИ, герои ИХ романов, ИХ мужья и личные соперники становились центром жизни огромного количества людей. Гвоздь в их сапоге ощущался всем миром явлением Фауста, а улыбка Зинаиды Николаевны вызывала овации тысячи ладоней. «Во время I'istesso tempo в й'тоИ'ном эпизоде этого произведения вспыхнула слепящая молния, прокатился гром, рванул ветер и полился дождь. Но дорвавшаяся до слушания Нейгауза киевская публика, подняв воротники и спешно раскрыв зонтики („Ах, простите, я вас задела!“ – „Нет, нет, ничего, не беспокойтесь!“), внимательно дослушала весь концерт. Но только он отзвучал и смолкли аплодисменты (на которые тоже ушло какое-то время и низверглось достаточно дождя), как все пустились в бегство. И мы тоже».
ВИЛЬМОНТН.Н. О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. Стр. 176.
Примечательно, что это было не в Москве, а в Киеве, впрочем, Нейгауз, как мотылек, опылял их страстями Россию даже и за Уралом. И главное – музыка, главное – Шопен. «Его творчество насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из сходства с натурою, с которой он писал. Оно всегда биографично не из эгоцентризма, а потому, что, подобно остальным великим реалистам, Шопен смотрел на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на свете и вел именно этот расточительно-личный и нерасчетливо-одинокий род существования» (ПАСТЕРНАК Б. Шопен).
Пастернак мог чувствовать себя центром мира со своей немаленькой любовью.
Почему на обложке модного журнала никогда нет модели с ласковой, хитрой или задорной полу– или полной улыбкой? Взгляд в лучшем случае хищный, агрессивный – воплощенное зло, в худшем – мы видим уже жертву этого чьего-то зла: загнанную, истерзанную, замученную, в забытьи предлагающую нам под побоями утрированную, как в патентованном средстве для импотентов, сексуальность. И некого наказывать, да и жертва уже прошла этап желания отмщения. Она уже в золотых тенях, со сложной прической, с клочком шелка в двадцать тысяч долларов на плечах, – она уже решила не жаловаться. Жюстина – самый модный тип, ему, кажется, предлагается следовать. Пастернака этот тип привлекал, Зинаида Николаевна явилась ему не на фотографии, но он знал откуда, или, наоборот, – он, как сказочный герой, мог ворваться под обложку и участвовать в сюжете.
Конечно, он переносил силу и прелесть игры Нейгауза на непреодолимую прелесть Зинаиды Николаевны. Мы так любуемся котенком – так бы и съели его, мы приходим в возбуждение от мощной талантливой игры – и вот она подворачивается, Зинаида Николаевна. То есть, может, он и влюбился в Нейгауза больше, чем в его жену, но Нейгауз был для него тупиковым вариантом – рубильником, который перекрыл выход пару. Зинаида Николаевна природой была устроена иначе.
Восприятие музыки Толстым было гораздо грубее, чем у Пастернака. Тем, что Толстой вообще воспринимал ее, возможно, он обязан какой-то чисто физиологической особенности устройства слухового аппарата: ухо было способно воспринимать какие-то тона, мозг – синтезировать, а уловленная гармония сообщала приятные ощущения, как тепло или вкусная еда. Обычно Толстой в своих проявлениях грубее. Я написала машинально: «вкусная еда», а Толстой был и к ней равнодушен.
Над гурманами он подсмеивается, в «Анне Карениной» с гордостью за героя пишет, что хлеб с сыром ему вкуснее, чем французский обед. Спит на кожаной подушке – сиденье от дивана, молодая жена Софья Андреевна не знает, как уговорить его воспользоваться ее московскими перинами из приданого, вычищает овраг – отхожего места целый овраг, – сыплет песок на грунтовые увязающие дорожки. Сажает цветы! Из уюта Толстой любит только запах свеже-заваренного чая, солнце на веранде, а грязного белья ему просто не доводилось видеть вблизи. Стихов, понятно, не любил.
Было бы логичным ожидать от него полной глухоты к музыке.
Изощрен и восприимчив он был только к прелести человеческого духа.
Музыка (скрипичная, конечно, в максимальной степени) – он знал, о чем писал в «Крейцеровой сонате», – действовала на него физиологически. С физиологией у него все было в порядке, и он точно знал, куда эта музыка его влечет. После этого он уже не начинал открывать новые и новые утонченности и прелести в натуре дамы, попавшейся ему на глаза под звуки музыки, а выжигал в себе дьявола. Жечь был готов бескомпромиссно: «А почему бы и не перевестись роду человеческому».