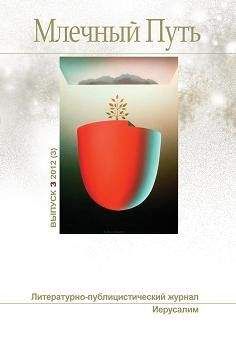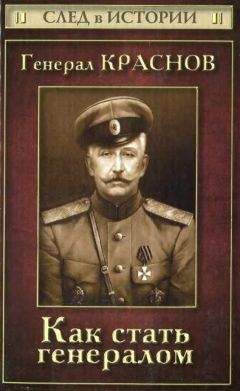Станислав Лем - Черное и белое (сборник)
Конечно, это вид несовместимости. Наш центр восприятия разработан для того, чтобы иметь дело с объектами, которые не отклоняются слишком далеко от шкалы, ограниченной нашими собственными телами и температурами. Если бы мы хотели узнать, как наш центр восприятия повел бы себя вблизи температуры в 100 миллионов градусов – а это температура при взрыве водородной бомбы, – ответ был бы такой: мы превратились бы в газ в момент взрыва. Мы бы ничего не почувствовали; наша шкала восприятия по сути ограничена, нравится нам это или нет. Другими словами, мир существует независимо от того, населен он людьми или нет.
В «Сумме» я рассматривал эту проблему в несколько иной форме. Я задал вопрос об экзистенциальном статусе печатных машинок в мезозойской эре. Ясно, что тогда не было печатных машинок, но если бы люди жили в то время, печатную машинку можно было бы сделать. Железная руда была – то есть, было возможно построить печь, сделать отвертки, молотки и другие инструменты. Это необязательная, теоретическая возможность, но она не противоречит тому факту, что с рациональной точки зрения здравого смысла все это правдоподобно и верно. Земля существует намного дольше, чем человеческий род, и хотя мы не знаем, как зародилась жизнь или как Человек разумный выделился из гоминидов, мы принимаем за очень правдоподобное то, что оно так или иначе произошло. Но есть одна вещь, в которую мы не готовы поверить, – это то, что все это случилось благодаря вмешательству волшебника или что мы оказались на этой планете только две недели назад благодаря божественному чуду. Я, таким образом, являюсь сторонником здравого подхода к этим вопросам, в то время как осознаю его недостатки.
Эти недостатки были – хочу подчеркнуть – предметом значительного недовольства другого мыслителя: сэра Артура Эддингтона. Ему показалось странным, что, по-видимому, перед ним были два стола: один привычного вида, на который он положил свои локти, а другой – не более чем облако электронов. Сегодня не нужно ограничивать себя электронами, но можно принять во внимание вакуум с его виртуальными частицами. Кроме того, этот стол также является микроскопическим источником энергии, потому что он создает определенное гравитационное поле, неважно, насколько оно несоизмеримо мало. Это область физики двадцатого столетия, но если мы вернемся к Аристотелю, он бы видел все это совершенно по-другому, так как он ничего не знал об атомах и электронах. Как сказал Рассел, реальность передается нам тем способом, который доступен нашим органам чувств; все остальное – это результат наших гипотез и умозаключений.
Мое отношение к философии вообще? Есть философы, которые нравятся мне, даже несмотря на то, что я не обязательно соглашусь со всем, что они скажут. Мне близок, и я очень уважаю Шопенгауэра, даже при том, что его система «Мира как воли и представления» не вызывает особого восторга. Мне очень нравится Бертран Рассел своей скептической и трезвой позицией. Это – типично английское философское направление с флегматичной и аналитической основой. Напротив, я абсолютно не переношу феноменологов – Хайдеггера и Гуссерля, и особенно этого сумасшедшего Дерриду с его неоклассицистским теоретизированием. Я не могу отрицать вклад и эмоциональность Поппера и его школы; фальсифицируемость – полезное понятие, да и сам Поппер был проницательным мыслителем. Но затем из тени мастера вышел студент, Пол Фейерабенд, отступник и еретик всей школы Поппера. Я даже вступил в полемику с Фейерабендом на страницах одного немецкого журнала. Правда, воздержался от излишних оскорблений в его адрес, хотя он действительно их заслуживал. Поводом послужило его заявление, что научная индукция и остальные научные методы не обязательно приводят к истине, и что все методы, дающие пригодный для контроля результат, – одинаково хороши. По существу, я не против того, что им было сказано, но я обязан был высказаться, когда он зашел слишком далеко, предлагая в качестве теории познания своего рода анархический дадаизм.
Мое отношение к философии и философии науки немного похоже на то, что описывает Гомбрович в своем «Дневнике». Весьма забавен этот его образ множества плавильных печей, раскаленных добела, и фигура прогуливающегося автора, который говорит себе: «Вот картина хайдеггеровского концепта, давайте отщипнем от нее кусочек и посмотрим, каков он на вкус». Он так и делает и говорит: «Слишком горячий и слишком горький, на мой вкус». После чего направляется туда, где сидит Сартр и думает о небытии и пустоте, но вскоре удаляется со словами: «И это тоже мне не по вкусу, слишком депрессивно». Экзистенциальное небытие действительно слишком грустное и угнетающее для меня – практически, можно сказать, мне не нравится сам способ, которым я пробую его на вкус. Должен признаться, мое отношение к специфическим философским системам не лишено дополнительного измерения, которое заставляет меня принимать их не только из-за того, что они правдоподобны и внушают доверие, но также и потому, что они близки мне в эстетическом плане.
Как в научных, так и в метафизических (то есть философских) исследованиях эстетическое качество аналитической формы, в которой выражена теория, является одним из определяющих факторов ее принятия. Я думаю, что этот фактор лежит в основе довольно таинственной и несколько необъяснимой взаимосвязи между музыкальными и математическими творениями. Мой сын, например, в отличие от меня, наделен музыкальностью. Он сочиняет музыку, играет на многих инструментах, даже при том, что главным образом его интересуют физика и математика. У меня же совершенно другое отношение к музыке. Мое музыкальное развитие заканчивается Бетховеном; Бах меня не слишком воодушевляет, и я не могу ничего с этим поделать. В этом смысле я совершенно обожаю Шопена, однако не выношу атональную музыку – Стравинский совершенно ничего для меня не значит. Я предпочитаю Пятую симфонию Бетховена Седьмой, а Девятая приводит меня в состояние определенного экстаза. И я даже не уверен, что смог бы объяснить, почему это так, а не иначе.
Мое отношение к различным философским системам по существу не отличается. Сартр раздражает меня своими тяжеловесными трудами на тысячи страниц. В том, что пишет Поппер – много смысла, но с другой стороны, он слишком напоминает школьного учителя, который, грозя пальцем с кафедры, объявляет вещь такой-то и такой-то. И с ним нельзя не согласиться, а то ведь схватят за ухо и выдворят из классной комнаты. Затем есть философы вроде Гуссерля или – возьмем лучше Витгенштейна, который в первой половине жизни написал «Логико-философский трактат» (1922), а позднее опровергал все в нем изложенное в «Философских исследованиях» (1953). Извините меня, но изучать кого-то, ведущего бои с самим собой, может быть интересно только тем, у кого больше свободного времени, чем у меня.