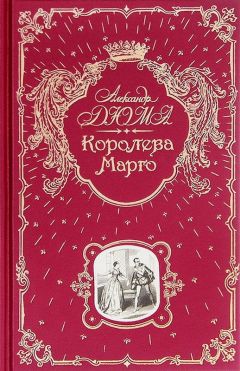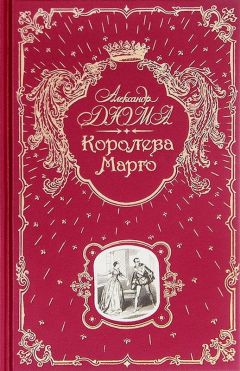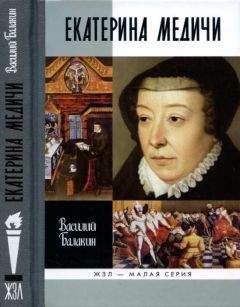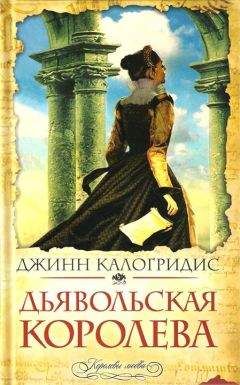Г Владимов - Генерал и его армия
- Ничего. Мой отец был Фриц. И мой брат - Фриц. Я смеюсь над тем, как тебя называют русские: "мороженый Фриц". По их понятиям, ты уже не вояка. Что скажешь на это?
И этот коротышка, такой с виду тщедушный - но, видно, из тех, кто показывает характер и в бою, и в постели, - вдруг закричал, трясясь от ярости, подняв руку со скрюченными пальцами, никак не сжимавшимися в кулак:
- Прикажи атаковать, Гейнц!
- Ну-ну, успокойся...
- Ты увидишь сегодня "мороженого Фрица"! Десять русских покойников, тепленьких, я тебе обещаю!..
Нет, это все-таки было войско. Тевтонский дух под ровными рядами глубоких касок, под штандартами на парадном плацу, в гулком шаге марширующих легионов - это чересчур просто!.. Они этот дух явили - за пределом отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами; они уже с мыслью простились когда-нибудь вернуться к жизни, но при первом же к ним призыве встрепенулись, воспрянули, как боевые
кони при пении горна, и вот уже шли гурьбою за его танком и требовали, потрясая оружием:
- Поведи нас хоть сейчас, Гейнц!
- Мы согреемся в атаке!
- Помнишь, как было под Дюнкерком?
- А как форсировали Березину? То ли еще было!
...Что сказали б они сейчас, увидя, как он бредет по дну бесконечного оврага, указывая водителю, где положе, и уже заранее зная, что опять ничего не выйдет! Белый танк они бы, пожалуй, не разглядели в темноте, а лишь его самого в черном комбинезоне, кому-то куда-то
указывающего рукой, - зрелище, наверно, диковинное, но и жалкое; тот, "мороженый", хорошо бы посмеялся в отместку.
Оставив все попытки, он забрался в танк и приказал выключить двигатель, а люк держать открытым, чтобы не упустить какой-нибудь случайной машины. Он не решался радировать о своем несчастье, десятки слухачей услышали бы его просьбу, которую нельзя было даже зашифровать, и, разумеется, разнесли бы по всему фронту. Скорчась в остывающей стальной коробке, боясь задремать и время от времени взбадривая экипаж, он все возвращался к тем егерям и думал о том, что солдатское обещание, которое он вырвал сегодня - нет, выманил! из их обмерзающих уст, его самого повязало путами и давит на него убийственной тяжестью. Генерал, повелевая солдату умереть, по крайней мере не обманывает его. Но он трижды убийца, когда обещает победу, в которую сам не верит.
Близко к полуночи случайная машина связи подобрала их и доставила в штаб 2-ой танковой армии, расположившийся в Ясной Поляне, имении Толстого. Белые башни ворот - как и впервые, когда он в них въезжал, - показались ему бастионами, которые всякий раз приходится брать заново, и, поднимаясь к усадьбе аллеей могучих лип, он чувствовал, что поднимается к самому значительному за всю его жизнь решению.
Адъютант и офицеры штаба, ждавшие его с докладами, помогли ему стащить комбинезон, и он поужинал с ними за семейным столом Толстых, отогреваясь коньяком и рассказывая со смехом о происшествии в овраге. Он знал, что об этом будут рассказывать в армии его словами и подражая его интонации. С тем он отпустил их спать, попросив, чтоб они, не зовя денщиков, убрали со стола и заменили все четыре свечи в подсвечнике. Кроме того, он заказал связь с командующим группой армий "Центр" генерал-фельдмаршалом фон Боком - как только представится возможным.
Несколько минут он просидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам, скрипам и жалобным вздохам старого дома, к вою метели и окрикам патрулей, проникавшим сквозь плотные светомаскировочные шторы, затем встал, подошел к стенному зеркалу в потресканной овальной раме орехового дерева. Зеркало, в которое, наверное, любили смотреться дочери Толстого, отразило сухощавую, но и достаточно плотную фигуру 53-летнего генерал-полковника германских бронетанковых войск, в сером мундире с черным плюшевым воротником, с Рыцарским крестом на шее и особо ценимой наградой - дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, начавшее стареть мальчишеское лицо с серо-голубыми глазами и небольшими, пшеничного цвета, усами. Сейчас, когда лицо не для кого было делать, не выглядело оно ни улыбчивым, ни лукавым, а было измученно-серым. Вглядываясь в себя придирчиво, как женщина, он его умыл рукою, но только резче обозначились набрякшие потемнения под глазами. Затем рука опустилась, расстегнула две пуговицы мундира, проникла за обшлаг к левой стороне груди. Никто во всей армии, даже из самого близкого окружения, не знал, что бравый Гейнц, казавшийся воплощением здоровья духа и тела, в сущности, очень больной человек, подверженный внезапным обморокам и сердечным припадкам. Пока еще эту железную, но одетую в мягкое руку, сжимавшую сердце пугающим теснением, удавалось разжать двумя рюмками коньяка. Но рано или поздно следовало все же открыться врачам. Он собирался это сделать в Москве. Но из сегодняшнего оврага Москва ему показалась уж слишком далекой.
Взяв тяжелый подсвечник, он перешел в кабинет хозяина, к письменному столу, которые были теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было ясно и почти готово, но, страшась его, отодвигая его в сознании, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснения в сердце, о которых она уже знала, описал подробно свои ощущения и попросил, чтоб она осторожно, без огласки, посоветовалась с врачом: И далее, почти без перехода, обрушил на нее жалобы совсем не медицинского свойства, точно бы фрау Маргарита Гудериан, его Гретель, одна во всей Германии, могла ему и в этом помочь. Впрочем, годы спустя, называя три вещи, которые "делают нашу земную жизнь священной", упомянет он - любовь к женщине, и это, несомненно, о ней, Маргарите Герне, с которой встретился двадцати пяти лет от роду, счастливым лейтенантом, командиром егерской роты, и особо оценил ее способность быть верной подругой солдату, - кому же еще и было адресовать горестные признания?
"Мне самому никак не верится, - выводила его рука, - чтоб за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей!.." Ей предстояло узнать, что "наше командование слишком натянуло тетиву лука, оно требует от армии выполнения задачи, невыполнимой при теперешнем состоянии дорог, погоды, снабжения частей горючим, техникой, зимним обмундированием..." К ней, наконец, посылался вопль души, говоривший и о том, что ее Гейнц знает цену себе, своему умению, и о том, что резервы его умения исчерпаны: "Не могу же я один опрокинуть весь Восточный фронт!"
Но - откуда же взялось малое это словечко "почти", которое сама рука вывела и не решалась зачеркнуть? Не казалась ли ситуация блестящей - без всяких "почти" - в начале вторжения, хоть было известно заранее, и ему больше, чем кому бы то ни было, что русский "танковый аргумент" впятеро превосходит немецкий? "Зато, господа, - так ему передали слова фюрера, - у нас есть Гудериан!" И как кружила голову эта легкомысленная, в сущности, похвала!.. "Мой дорогой генерал-полковник, сколько дней вам понадобится разделаться с Минском?" - "Пять-шесть, мой фюрер." - "Значит, я могу быть уверен, что вы там будете по крайней мере 28-го?" - "Да, мой фюрер." Он ошибся - на один день: его танки и танки группы Гота были в Минске 27-го. Блицкриг с опережением на один день, пусть даже с запозданием на неделю, разве не блестяще?