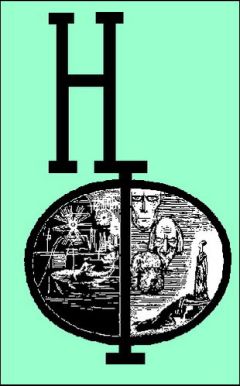Филипп Эрланже - Регент
В покоях герцогини Бургундской толпились дамы в чепчиках, кое-как одетые придворные и слуги, «сдержанное рыдание» которых выдавало горе из-за потери господина, которого они обожали. И все, тяжело переводя дыхание, бросали по сторонам подозрительные взгляды, стараясь угадать, как отразилось в других это потрясение, которое могло быть чревато в будущем столькими неожиданностями.
Сколько внезапно похороненных надежд, планов, честолюбивых устремлений! Удар судьбы — и те, кто были первыми, оказывались последними, надменные сломлены, а скромные вознесены. На месте хилого, болезненного и нерешительного наследника, — при котором процветали бы циничные Вандомы, алчная герцогиня Бурбонская и полная странных фантазий герцогиня де Бёрри, — Франция увидела бледного Телемаха[17], за которым тянулась вереница пэров и священников. Война сменялась миром, распущенность — аскетизмом, вседозволенность — непреклонностью.
Растерявшись от этой неопределенности, придворные решались произносить время от времени лишь осторожные банальности. Новый дофин, сидя на канапе между женой и братом, тихо оплакивал — «очень искренне», как с восхищением отмечал Сен-Симон, — отца, который его не любил. Герцог де Бёрри испускал горестные завывания, которым вторила причитавшая жена, чьи злобные расчеты оказались напрасными. Мария-Аделаида Савойская проронила несколько слезинок и что-то невнятно пробормотала. Герцогиня Орлеанская, тайно не любившая дофина и мадам герцогиню, пришла чуть позже, поскольку надо было скрыть следы радости на лице. Никто не позволял себе проявлять какие-либо чувства, кроме тех, что приличествовали случаю. Вся в слезах пришла мать герцога Орлеанского, что сильно всех удивило, потому что для такого горя у нее не было никакой причины.
Сен-Симона переполняла безумная радость, и он повсюду искал герцога Орлеанского, чтобы отпраздновать чудесное событие, благодаря которому рассеялось столько туч. Филипп, очень бледный, вышел от матери; он увлек своего друга в потайной кабинет и, бросившись в кресло, зарыдал.
«Монсеньор!» — только и мог воскликнуть потрясенный и шокированный Сен-Симон.
Принц всхлипывал, и потребовалось какое-то время, чтобы он нашел в себе силы извиниться: «Ваше изумление вполне понятно, но на меня произвело впечатление это зрелище. Это был добрый человек, рядом с которым прошла вся моя жизнь. Он относился ко мне хорошо и по-дружески — насколько ему позволяли и насколько он сам мог…»
Набожный ментор возвращает на землю своего слишком чувствительного приятеля: «Вам предстоит вернуться к мадам герцогине Бургундской, и если вас увидят с заплаканными глазами, будут насмехаться над неуместной комедией, поскольку при дворе прекрасно знают, какие отношения были у вас с дофином».
Решительно, герцог Орлеанский никогда не мог вести себя как все благоразумные люди. Вместо того чтобы оплакивать своего врага, ему бы следовало присоединиться к провозвестникам новых времен.
В самом деле, легкий ветерок этой горькой весны принес с собой ожидания больших перемен. После полувековой спячки аристократия вновь почувствовала, как в ее крови играет безудержная жажда власти и независимости, о которых она забыла после Средних веков. На сей раз речь шла не о том, чтобы открыть городские ворота врагу, и не о гражданской войне. И единственное, что должен сделать принц, это позволить грандам свести на нет все, чего добились ненавистный Ришелье и Людовик XIV, и обрести их былое могущество.
Когда король приказывает государственным секретарям работать вместе со своим внуком, гранды решают, что их час вот-вот пробьет. В Камбре Фенелон уже видел себя первым министром, кардиналом. Семидесятитрехлетний монарх долго не протянет, и надо было, не теряя ни часа, бросать семена в ту почву, где зарождался новый Золотой век.
Бовилье, Шеврёз, Сен-Симон трудятся не покладая рук, ведомые своим оракулом, а по ночам пишут мемуары. Пергаменты скапливались в шкатулке дофина — это были знаменитые «Таблицы Шона», план Идеального города.
Никаких реформ! Никакого прогресса! Пусть торжествует добродетель! Знаменитая система государственного управления, которой восхищалась вся Европа, рассыпалась на части. Интенданты? Упразднить! Государственные секретари? Уволить! Ведь на этих должностях немало людей из низших сословий. Вместо централизованной монархии — ассамблеи представителей провинций и церковнослужителей; вместо министров — советы. Но ни в ассамблеи, ни в советы не допускались простые люди; не было им доступа ни к офицерским чинам в армии, ни на судебные должности.
Знать должна была стать достойной своего нового предназначения. Никаких неравных браков! Новоиспеченные герцоги больше не будут становиться пэрами Франции! Никаких буржуа, прячущихся за недавно приобретенными титулами! Отныне надо будет представить весомые доказательства, чтобы получить право на мантию пэра!
Очищенная подобным образом знать отправит выходцев из народа в небытие, из которого им никогда не выбраться, и получит ничем не ограниченную власть, оставив королю безобидный авторитет, как при Людовике VII.
Финансовая проблема тоже будет решена. Разве Церковь не выступает за выдачу ссуды под проценты? Всеобщее банкротство покажет кредиторам государства, что правительство «святых» не будет отвечать за последствия их ошибок.
Но самая главная задача была в другом. Важнее всего было уничтожить остатки протестантской ереси и расправиться с гидрой янсенизма. Слащавому Фенелону были гораздо более отвратительны охоты в Пале-Рояль, чем солдафоны императора. Он поносил распространившееся во французском обществе при Людовике XIV пристрастие к удовольствиям, удобству, мотовству.
Семейство, некогда довольствовавшееся одним ложем на всех, теперь располагает отдельной кроватью на каждого. Это же неслыханно! Он предавал анафеме слишком роскошные дома, слишком большие кареты, слишком богатые платья.
И из этих отнюдь не безопасных глупостей противники Людовика XIV создавали трогательный образ Фенелона и герцога Бургундского. Учитель и ученик с их мягкостью, сентиментальностью, состраданием к людской нищете представали весьма трогательными в воображении их последователей. Но получив власть, эти благочестивые души натворили бы больше зла, чем любой тиран.
Самым опасным было то, что в 1711 году идея социального регресса приобретала все больше сторонников. Всем были известны добродетельность и благожелательность молодого дофина, который был способен продать свои драгоценности, чтобы помочь бедным. И все несчастные, все недовольные, набожные, честолюбивые обратили свои взоры к нему как к новому мессии.