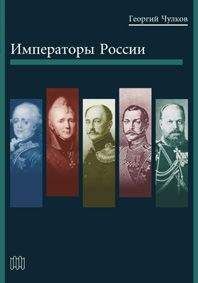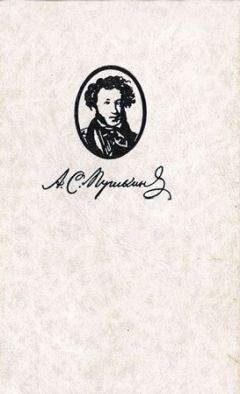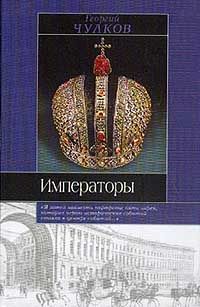Георгий Чулков - Годы странствий
Все знали, что город превращен в военный лагерь, что в рабочих будут стрелять, и казалось невозможным, чтобы эти убийства в самом деле совершились. Казалось, что надо кому-то что-то растолковать — и не будет кровавого ужаса. Решили, как известно, послать депутацию к Витте[180] и к Святополк-Мирскому. Были выбраны A. B. Пешехонов,[181] В. А. Мякотин,[182] В. И. Семевский,[183] Максим Горький и еще человек пять. Мы не расходились, дожидаясь ответа. Вернувшиеся депутаты привезли ответ непонятный, с которым не мирилась ни совесть, ни даже простая логика. Витте принял депутатов, но объяснил с любезною улыбкою, что эта вся история его не касается, все это «не его ведомства». Святополк-Мирского вовсе не нашли. Его будто бы не было дома, и будто бы никто не знал, где он находится. Вместо него принял депутацию какой-то генерал, который советовал депутатам обратиться с предупреждением не к правительству, а к рабочим. Но к рабочим уже нельзя было обратиться. Было поздно. Да и у петербургских интеллигентов не нашлось тогда языка, понятного и убедительного для этих измученных и взволнованных людей, в которых проснулись какие-то древние, загадочные, исконные надежды на «царя-батюшку», воскрес тысячелетний миф о народном государе.
Все понимали, что объяснить события простой провокацией департамента полиции недостаточно и неразумно. И поп Гапон,[184] несмотря на свою явную связь с охранным отделением, был загадочен и грозен для старого порядка. И с ревнивым чувством интеллигенты смотрели на этого безумного священника, который поднял десятки тысяч рабочих и вырвал у них клятвы на борьбу за свободу.
Когда я ночью вышел из помещения «Сына отечества» и пешком направился домой, у меня оказался спутник — видный и многоопытный политик.
— Что будет? — пробормотал я, чувствуя смертельную усталость и вовсе не надеясь, что мой спутник сможет ответить мне на этот безответный вопрос.
Но спутник стал объяснять что-то, стараясь уверить себя и меня, что все это очень просто, что масса «несознательна», но скоро она станет «сознательна», что даже очень хорошо, что будут стрелять в этих «баранов» (он именно так выразился).
— Это нам очень на руку, — сказал политик, улыбаясь. — Послезавтра нас будут слушать так внимательно, как никогда еще не слушали. Такова диалектика истории.
Немногие, вероятно, спали в эту ночь. И я не спал, размышляя о «диалектике истории». Утром я вышел из дому. Белая мгла висела над городом. И в холодном тумане алело солнце без лучей, как окровавленный круглый щит.
На углу Вознесенского я встретил конный патруль. Рядом бежала толпа, перекликаясь с солдатами.
— Неужто стрелять будете?
— А по-твоему бунтовщиков пряниками кормить?
— Ай да солдат? В своих же, в православных христиан…
— Мы, небось, присягали.
— А японца испугались.
— Ну, поговори еще. Больно ты шустрый.
На Казанской, около костра, старуха рассказывала. Слушало человек десять.
— Проснулась, а его, родимого, и нету. Туда-сюда. Ушел. Спрашиваю Матрешу: не видала ли? — Пошел, — говорит, на Невскую заставу, оттуда, — говорит, — тьма-тьмущая идет. Одних судостроительных Бог знает сколько. Ну, где же его, светики, разыскать. Вот и маюсь теперь так, не емши, не пимши…
— Моли Бога, старуха…
— А Матреша говорит: — Не сносить ему, говорит, головы. Лучше бы, говорит, ему головою в прорубь.
По Гороховой бежала толпа с криком и свистом; проскакали солдаты; впереди — молоденький безусый офицер с круглыми, испуганными, непонимающими глазами.
Мгла над городом опрозрачилась. Багровое солнце ширилось в небе, как бы распуская крылья, пламенея в надземном просторе.
Я пытался пройти к Зимнему дворцу, но это было невозможно. Сначала меня задерживали нестройные толпы беглецов, а потом я натыкался на полицейские наряды, стоявшие поперек улиц.
Я с трудом пробрался к Александровскому саду. Меня прижали к решетке. Я стоял в черной, безмолвной, угрюмой толпе. Напротив — серые и теперь казавшиеся жуткими ряды солдат. Все казалось чем-то небывалым, странным и невозможным: и эти штыки с багряным холодным на них отблеском петербургского солнца, и эта глухонемая земля, побелевшая под снегом.
На мгновение я почувствовал, что теряю слух и зрение. Когда я очнулся, вокруг меня все было то же: рядом простоволосая баба с необыкновенно бледным лицом, какой-то горбоносый студент и мастеровой с надвинутым на глаза картузом и вздрагивающей нижней челюстью.
И все недвижны. И тишина.
Я не слышал выстрелов. Я не знаю, почему я не слышал выстрелов. И для меня совершенно неожиданно и странно опустились на белый снег эти черные люди.
Мимо меня пронесли человека. Я видел запрокинутую голову — смуглое лицо, непонятную улыбку, глаза недвижные, устремленные вверх — к багровому солнцу.
Так 9 января 1905 года петербургская монархия похоронила себя навек.
В тот же день я зашел в Тенишевское училище.[185] Там сутра собрались петербуржцы, главным образом, литераторы, ожидая событий. Эта горсть интеллигентов, оторванная от того «народа», о коем она не уставая твердила несколько десятилетий, представляла зрелище, внушающее и ужас, и жалость. Некоторые рыдали. Один писатель, сидевший немало в тюрьмах, залез на стол, топал ногой и визжал, призывая всех немедленно идти под расстрел.
Какой-то смуглый коренастый человек, мне незнакомый, злобно захохотал прямо в лицо визжавшему интеллигенту.
— Ну, врешь, брат. Теперь уж я без винтовки на улицу не выйду.
Вечером я вошел в Вольно-экономическое общество,[186] где должны были собраться писатели. Появился здесь и Гапон, но его скоро увезли прятать, потому что этого загадочного человека ловила полиция. Читали наскоро составленные прокламации «К рабочим», «К офицерам» и «К солдатам» и еще какие-то. Объявили траур. Решено было закрыть все зрелища. Мне поручили сорвать представление в Александринском театре.[187] И я с одним спутником, кажется, каким-то адвокатом, поехал в Александринский театр. Там, на собрании, в помещении Вольно-экономического общества, казалось очень легким прервать спектакль, но когда я вошел в вестибюль казенного здания, я вдруг сообразил, что это дело довольно сложное и рискованное. Я предложил моему спутнику такой план. Мы дожидаемся начала очередного акта (кажется, второго), и во время действия один из нас поднимается и говорит, что в знак народного траура мы требуем прекращения спектакля. Так и сделали. Должен признаться, что я никогда так не волновался перед публичным выступлением, как на сей раз.