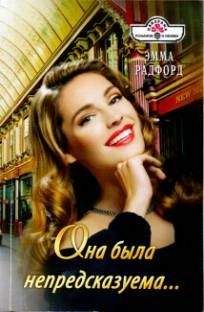Майк О'Махоуни - Сергей Эйзенштейн
Не только просторы залов Зимнего дворца способствовали применению разнообразных приемов съемки. Самую неоднозначную реакцию общественности вызвали эпизоды с элементами декора бывшей царской резиденции. Взять самый известный пример – крупный план механического павлина, который поворачивается задом к зрителю и, будто бы, к Керенскому, который открывает двери в покои царицы. С одной стороны, этот монтаж призван выставить главу Временного правительства механической игрушкой, безвольной и незначительной, в руках старого режима. С другой, ассоциация с павлином выставляет Керенского самовлюбленной, напыщенной и тщеславной фигурой. Позже кинокритики предпринимали попытки еще более глубокого анализа этой сцены. Юрий Цивьян, к примеру, увидел здесь сексуальную метафору и предположил, что павлин олицетворяет Зимний дворец, в который Керенский входит «с тыла»[125]. Цивьян приводит примеры еще нескольких метафор «Октября», которые приравнивают штурм Зимнего дворца к сексуальному завоеванию или даже изнасилованию. Важно, однако, не то, принимать эти интерпретации или нет, но тот уровень сложности и неоднозначности, который несет в себе монтаж Эйзенштейна.
Самые яркие и в то же время спорные метафоры Эйзенштейн использовал для создания ощущения угрозы, нависшей над революцией во время «июльских дней». Генерал Корнилов стягивает войска для нанесения контрреволюционного удара; обычные рабочие и солдаты вооружаются, готовясь защищать город, тогда как члены Временного правительства продолжают бездействовать в своем роскошном и безопасном пристанище. Режиссер монтирует общие планы Керенского с крупными планами фигурки Наполеона, стоящего в такой же позе. У главы правительства императорские замашки, словно говорит режиссер; революция предана. Это же сравнение он применяет к Корнилову: генерал верхом на лошади показан как копия другой статуэтки Наполеона. Два маленьких Бонапарта затем оказываются друг подле друга – теперь их ничто не разделяет.
Механический павлин, фильм «Октябрь»
Своей техникой монтажа Эйзенштейн стремился сформировать такой художественный язык кинематографа, который был бы подобен языку в лингвистическом понимании. В статье, опубликованной в газете «Кино» в марте 1928 года, он писал:
«Сферой новой кинословесности, как оказывается, является сфера не показа явления, ни даже социальной трактовки, а возможность отвлеченной социальной оценки… Это будет искусство непосредственной кинопередачи лозунга. Передачи столь же незасоренной и прямой, как передача мысли квалифицированным словом»[126].
Назревающая концепция «интеллектуального» монтажа Эйзенштейна в «Октябре» наиболее ярко проявила себя в отрывке, известном по титру «Во имя Бога и Родины». Этот одиозный лозунг Корнилова открывает последующий визуальный ряд, которым Эйзенштейн развенчивает самые основы религиозной веры. Друг друга сменяют крупные планы различных образов божеств и архитектурных элементов религиозных сооружений. Сначала барочная статуя Христа чередуется с луковичными куполами храма Спаса-на-Крови в Петрограде, символизируя русское православие. Их сменяет ряд восточных божеств и фрагменты мечети. Хотя Эйзенштейн не слишком точен в подборе образов, он, несомненно, подразумевает влияние восточных религий – в частности ислама – в отдаленных краях Советского Союза. Последовательность кадров достигает кульминации на изображениях древнеазиатских и североамериканских божеств и завершается примитивными деревянными статуэтками из Африки. Позже Эйзенштейн подтверждал, что его задачей было приравнять современные религии к древним, изжившим себя суевериям. В его собственных, нарочито опрощающих этот процесс и потому довольно проблематичных терминах, «по нисходящей интеллектуальной гамме эти куски и собраны и низводят идею бога к чурбану»[127].
Наконец, повествование «Октября» доходит до событий, непосредственно предшествовавших Октябрьской революции: возвращение Ленина в Петроград, побег Керенского и выстрелы из орудий крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу. На ликующе-торжественной ноте фильм заканчивается штурмом Зимнего дворца, когда толпа захватывает царскую резиденцию и объявляет рождение первого пролетарского социалистического государства. И здесь «Октябрь» продолжает полниться символическими и метафорическими аллюзиями. Так, юный матрос-большевик в одиночку обороняет мост от напирающей толпы защитников Временного правительства, которые заметно старше него; идею упорства и самопожертвования как главных атрибутов большевизма усиливает ассоциация с легендой о подвиге Горация Коклеса, записанной Титом Ливием. Эта параллель драматизирует момент и помещает его в исторический контекст[128]. В последней сцене мальчик, олицетворяющий будущие поколения, во имя которых свершилась революция, садится на царский трон и радостно машет шапкой, а циферблаты часов, показывающие время в разных городах планеты, фиксируют ключевой исторический момент. Само время преобразилось с победой большевиков, и вся планета вступила в новую эру.
Керенский – Наполеон, фильм «Октябрь»
Неоднократные переносы премьеры «Октября» подогревали любопытство критиков, и когда фильм таки вышел на экраны накануне партийного совещания в 1928 году, прессу захлестнул шквал рецензий. Тем не менее, в лучшем случае реакцию на фильм можно было назвать прохладной. Были, конечно, и те, кто провозгласил работу Эйзенштейна новой вехой в истории кино. Пудовкин, например, высоко отзывался о сцене «восхождения» Керенского, хотя он и видел только отдельные фрагменты фильма в стадии монтажа[129]. Луначарский хвалил «грандиозный поток изумительных, а иногда прямо гениальных мест» в фильме, который произвел на него «впечатление огромной победы»[130]. Тем не менее, над восторженными отзывами преобладали сомнения. Казалось, положительную реакцию критики вызывали лишь отдельные части, а не вся лента целиком. Адриан Пиотровский, который прежде назвал «Потемкина» «шедевром советского киностиля», точнее всего описал воцарившееся меж критиков смятение: «восхищение деталями фильма и недоуменная прохлада в отношении фильма как целого»[131]. По-прежнему считая Эйзенштейна мастером своего дела, он призывал его перемонтировать ленту и приблизить ее к идеалу «Потемкина».