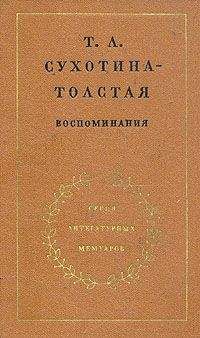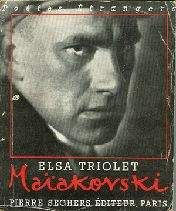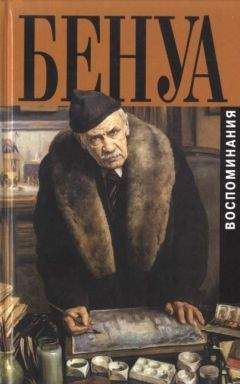Сергей Лифарь - С Дягилевым
Мы выехали из Венеции только в начале сентября — все время с Легатами, и уроки продолжались и во Флоренции, и в Риме, и в Неаполе.
Дягилев помог мне понять и полюбить Флоренцию и Рим, особенно Флоренцию, его любимый «святой» город. Пять дней подряд ходили мы в Уффици. Как эти пять дней на всю жизнь обогатили меня, сколько откровений они принесли мне!
Дягилев неутомимо-восторженно показывал мне свою Флоренцию, такую Флоренцию, какую он знал и любил и какою любил, гордый и счастливый тем, что он может передавать своё понимание и любовь, гордый тем, что он мне даёт и что я так послушно и благодарно слушаю, воспринимаю и учусь, расту... Хорошо запомнилась мне поездка во Фьезоле. Там мы ничего не осматривали — и не хотелось ничего осматривать,— только сидели на террасе ресторана, разговаривали и смотрели на далекую, прекрасную, постепенно закрывающуюся темнотой Флоренцию... Кажется, ничего в этой поездке особенного не было, а она почему-то заставила меня ещё сильнее полюбить Флоренцию и сохранилась в моей памяти как один из немногих совершенно светлых моментов жизни... После Флоренции — Рим.
От первого пребывания в Риме у меня остались только обрывки, осколки впечатлений от римских музеев, от неизмеримых римских художественных богатств, да иначе оно и не могло быть: и слишком мало времени мы пробыли в Риме, и даже Дягилев терялся и не знал, что самое важное показывать (слишком много этого самого важного в Риме!), и слишком уж я был насыщен флорентийскими впечатлениями, как-то устал от музеев, для того чтобы с жадностью и неутомимостью бегать по залам в одном желании — «всё» увидеть. К счастью, Дягилев не хотел «всё» показывать мне, и поэтому даже после первой поездки в Рим у меня не осталось в голове никакого сумбура, никакой мешанины: я видел немногое, но видел по-настоящему, как следует. Двухмесячная поездка по Италии закончилась кричащим, шумящим, пестрым Неаполем с его уличной жизнью (кажется, люди живут не в домах, а на улицах), с его прекрасным заливом и потрясающими раскопками Помпеи и Геркуланума (помимо громадного художественного впечатления, которое на меня произвели помпейские фрески); я был поражён тем, что как будто не существовало девятнадцати веков,— я очутился действительно в первом веке. Закончилось наше двухмесячное путешествие по Италии в Сорренто и на Капри.
1 октября вся труппа собралась в Париже, и, за исключением четырёхдневной поездки в Антверпен (8—12 октября), мы оставались до 24 октября в Париже и занимались репетициями. Работы было много: надо было пройти старый репертуар и приготовить новый балет-creation [творение – фр.] — «Барабау» на музыку Риети с декорациями и костюмами Утрилло. В Русском балете Дягилева появился новый хореоавтор; испытывая его силы, Сергей Павлович поручает постановку нового балета Баланчивадзе (Баланчину). Опыт оказался очень удачным, и Баланчин до конца существования дягилевского балета оставался его балетмейстером; но с первым его балетом очень много возился и сам Дягилев: Утрилло дал картины трудновыполнимые и Сергею Павловичу приходилось их приспосабливать к сцене, быть как бы декоратором-couturier [модельером – фр.]; принимал участие Дягилев и в режиссуре спектакля (ему принадлежала, между прочим, мысль спрятать хор за изгородь и показать только головы). 26 октября мы уже начали свой двухмесячный сезон в лондонском «Колизеуме». За эти два месяца (с 26 октября по 19 декабря) мы дали девяносто шесть спектаклей, по два раза в день, все время с неизменным успехом и, кроме старого репертуара, 11 декабря дали новинку — «Барабау». Новый балет был принят восторженно лондонской публикой.
1925 год, счастливый год в жизни Сергея Павловича и моей,— в этом году я стал первым артистом — кончался так же счастливо и безмятежно, без единого облачка, как и начинался. Новый, 1926 год рождался более туманно и принёс немало невзгод Сергею Павловичу. С конца декабря до 6 января мы пробыли в Берлине и давали спектакли. Наши балеты, особенно новые балеты («Матросы» и «Зефир и Флора»), имели громадный успех, едва ли не больший ещё, чем в Лондоне, пресса возносила нас до небес, но большой Kunstler-theater[кюнстлер театр – нем.], в котором мы давали спектакли, был на три четверти пуст, и Русский балет потерпел материальное фиаско, которое сильно отразилось на благосостоянии балета. Единственные радостные и умиленные минуты Дягилев переживал 24 декабря, в сочельник, когда я, впервые за все его годы пребывания за границей, устроил ему ёлку. Сергей Павлович был невероятно растроган и моим вниманием, и самой ёлкой, прослезился (он говорил, что это его первая ёлка после счастливых детских лет) и стал вспоминать своё детство и позже гимназические годы в Перми; полились воспоминания о России, о которой Дягилев никогда не мог говорить без слёз. Ёлка, устроенная мною, разбередила его и заставила его ещё больше мечтать о своём невозможном домашнем уюте...
Здесь же, в Берлине, произошло важное событие в жизни Русского балета. Из танцовщиц Дягилев начал выдвигать Алису Никитину. Её успех вызвал такую ревность в Вере Немчиновой, что она окончательно решила уйти из труппы Дягилева и — никто этого тогда не знал — подписала лондонский контракт с Кокраном... Мы спешили в Монте-Карло к 17 января — ко дню традиционного монакского праздника — и 24-го дали большое гала в честь Монакского принца,— я с Немчиновой танцевали «Лебединое озеро» (с этих пор ко мне перешел весь классический репертуар). Немчинова уехала в «отпуск» и не вернулась к сроку... Сергей Павлович был очень расстроен, возмущался поступком Немчиновой и резко-твёрдо сказал нам: — Вера Немчинова больше никогда в жизни не будет в Русском балете.
Слово свое он сдержал и, когда случайно встретился с нею в 1928 году в Монте-Карло, в первый раз в жизни не подал руки женщине.
Уход Немчиновой открыл дорогу двум молодым артисткам — Никитиной и Даниловой, а это в свою очередь повело к новым осложнениям...
Всё начало 1926 года, после берлинского краха, Дягилев находился в подавленном, угнетенном и нервном состоянии: надо было готовиться к лондонскому и парижскому сезонам, а денег не было, и неоткуда было их достать. Помню, как во время оперного сезона в Монте-Карло Сергей Павлович неделями лежал в постели и занимался «разговорами и думушками» (как он говорил),— и «разговорушки» и «думушки» были безотрадны, нервы его расстраивались, и диабет усиливался и мучил Сергея Павловича припадками. Здесь уместно упомянуть о том, что всегда составляло предмет моей гордости,— о том, как я отучил Сергея Павловича от наркотиков. Сергей Павлович не любил курения, и я легко отказался для него от папирос, это и дало мне возможность «приставать» к нему, чтобы он перестал нюхать разрушавший его организм и психику порошок: