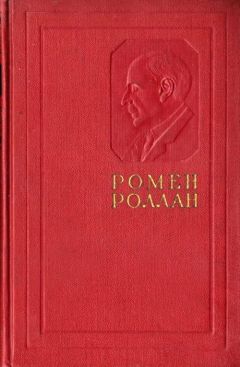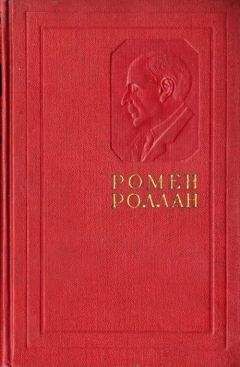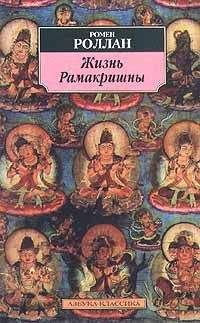Ромен Роллан - Жизнь Толстого
Несколько небрежный в других своих драматических творениях,[188] Толстой на сей раз достигает безукоризненного мастерства. Характеры и поступки действующих лиц обрисованы необыкновенно жизненно, без тени искусственности: сердцеед Никита; охваченная необузданной чувственной страстью Анисья; цинично добродушная старая Матрена, которая матерински покрывает распутство сына; святость старика-заики Акима, неказистое обличье которого избрал своим пребыванием бог. И дальше – падение Никиты, безвольного и незлого, но погрязшего в грехе и докатившегося до преступления, несмотря на тщетные попытки удержаться от падения в бездну, куда увлекают его мать и жена.
«Мужиков похвалить нельзя, а уж бабы…[189] Эти как звери лесные. Ничего не боятся… Вашей сестры в России большие миллионы, а все как кроты слепые, – ничего не знаете. Мужик – тот хоть в кабаке, а то и в замке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что?… Как выросла, так и помрет. Ничего не видела, ничего не слыхала… Так, как щенята слепые ползают, головами в навоз тычутся. Только и знают песни свои дурацкие: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают».
И, наконец, страшная сцена убийства новорожденного ребенка. Никита не хочет убивать. Анисья, которая ради него убила своего мужа и с тех пор терзается совершенным преступлением, свирепеет и, обезумев, угрожает выдать его; она кричит:
«Пусть не я одна. Пусть-ка и он душегубец будет. Узнает каково!»
Никита душит ребенка, зажав между двумя досками. Не завершив преступления, он в отчаянии пытается бежать, угрожает убить мать и Анисью, рыдает, молит:
«Матушка родимая, не могу я больше!»
Ему мерещится, что раздавленный ребенок плачет.
«Куда уйду я?»
Это – шекспировская сцена. Менее жесток, но еще более хватает за сердце вариант IV акта, диалог маленькой девочки и старого работника, которые, оставшись вдвоем в доме, слышат в ночной тишине крики и догадываются о преступлении, совершаемом на дворе.
В конце – искупление, добровольное раскаяние. Никита, в сопровождении своего отца – старика Акима – входит босой на свадебный пир. Он падает – на колени, земно кланяется всем присутствующим и публично кается во всех своих прегрешениях. Старик Аким, глядя на него с восторженной и скорбной улыбкой, подбадривает сына:
«Бог-то! Бог-то! Он во!»
Особую силу придает этой драме великолепный народный язык.
«Я ограбил свои записные книжки, чтобы написать «Власть тьмы», – говорит Толстой Полю Буайе.
Знаменитые сцены из «Власти тьмы», в которых так и светится душа русского народа, его поэтичность, его острый, насмешливый ум получились такими неожиданными, что рядом с ними бледнеют все привычные литературные образы. Толстой сам упивается изображаемым;[190] он с наслаждением уснащает драму всеми этими необычными выражениями и мыслями; он даже забавляется наиболее смешными из них и тут же, как проповедник, с отчаянием вглядывается в тьму человеческих страстей.
Наблюдая народ, освещая светом своей мысли мрак, среди которого народу приходится жить, Толстой одновременно создает два трагических произведения, показывающих, что богатые, обеспеченные классы общества пребывают в еще большей, поистине непроглядной тьме. Чувствуется, что в этот период творческая мысль Толстого находится под сильным воздействием законов театра. «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната» – это именно внутренние драмы, драмы души; отсюда их сжатость, сосредоточенность; а в «Крейцеровой сонате» повествование даже ведется от лица героя.
«Смерть Ивана Ильича» (1884–1886 гг.) – одно из тех произведений русской литературы, которые всего больше взволновали французских читателей. Я уже говорил в начале книги, как «Смерть Ивана Ильича» потрясла французских провинциальных буржуа, обычно совершенно равнодушных к искусству. И это понятно. Повесть Толстого волнует правдивым и типическим изображением среднего человека, добросовестного чиновника, который обходится без религии, без идеалов, даже без мысли; он весь поглощен своими мелкими делами и, прожив всю жизнь как бы машинально, только в смертный свой час с ужасом обнаруживает, что он по-настоящему так и не жил. Иван Ильич – типичный представитель европейских буржуа восьмидесятых годов прошлого столетия, тех буржуа, которые читают Золя, ходят в театр смотреть Сару Бернар и не то что отрицают религию, а просто ни во что не способны верить. Вера, безверие? К чему утруждать себя мыслями обо всем этом, проще не думать.
Яростным обличением современного общества и в особенности брака, то саркастически едким, то откровенно насмешливым, «Смерть Ивана Ильича» открывает серию новых произведений Толстого; повесть эта предвещает еще более суровый реализм «Крейцеровой сонаты» и «Воскресения». Жалкая и нелепо пустая жизнь людей, которых сотни и тысячи; смешное тщеславие, радости мелочного самолюбия – мизерные радости, но все же лучше они, «чем сидеть одному или с женой». Жизнь, отравленная служебными неудачами, несправедливыми оскорблениями (когда вас обходят чином). И эта нелепая, никому не нужная жизнь, в которой единственное счастье – игра в вист, обрывается по еще более нелепой причине: Иван Ильич упал с лестницы, желая поправить гардину на окне в гостиной, и падение это положило начало его болезни. Ложь жизни. Ложь болезни. Ложь преуспевающего врача, который сам-то вполне здоров. Ложь семьи, которой болезнь внушает отвращение. Ложь жены, которая изображает преданность, прикидывая в уме, как она будет жить после смерти мужа. Всеобщая ложь, которой противопоставлена единственная правда – сочувствие слуги: тот не старается скрыть от умирающего его положение и как брат ходит за ним. Иван Ильич, преисполненный бесконечной жалости к самому себе, оплакивает свое одиночество и эгоизм людей. Он невыносимо страдает до того дня, когда ему вдруг открывается, что вся его прошлая жизнь была полна лжи, но что это еще можно исправить. И вот – за час до смерти – все вдруг озаряется ясным светом. Он больше не думает о себе, он думает о близких, ему становится жалко их; он чувствует, что должен умереть, чтобы освободить их от себя.
«– А боль? – спросил он себя… – Да, вот она. Ну что ж, пускай боль.
– А смерть? Где она?
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и яе находил его… вместо смерти был свет.
– Кончено! – сказал кто-то над ним.
Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе.
– Кончена смерть, – сказал он».
В «Крейцеровой сонате» нет даже такого «света». Это жестокое произведение подобно лютому зверю набрасывается на общество, мстя за нанесенные раны. Не надо забывать, что это исповедь человека-зверя, который только что совершил убийство и весь пропитан ядом ревности. Автор отступает, и мы видим только его героя. И все же в яростных выпадах против всеобщего лицемерия: лицемерного воспитания девушек, лицемерия любви, брака – этого «разрешения на разврат», лицемерия светского общества, науки, врачей – «перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими», – во всем этом мы узнаем идеи самого Толстого, только выражены они здесь с повышенной резкостью. Увлекаемый своим героем, Толстой прибегает к чрезвычайно откровенным выражениям в безудержных описаниях плоти, снедаемой сладострастием, à затем переходит в другую крайность: неистовый аскетизм, ненависть и страх перед любовью, в исступление средневекового монаха, который проклинает жизнь, сам сгорая от чувственных желаний. Закончив «Крейцерову сонату», Толстой сам ужаснулся.