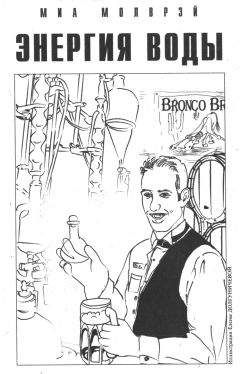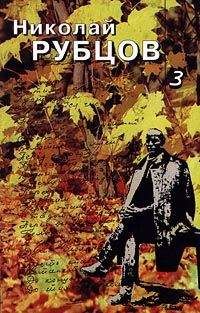Николай Рубцов - Последняя осень. Стихотворения, письма, воспоминания современников
Однажды Николай прочитал стихи, в которых царапнули слух слова «клавиатурное сопрано».
— Тут что-то не так, — заметил я.
— Сам чую, что не так. А как надо?
Но «как надо», я тоже не знал. И мое музыкальное образование ограничивалось уроками пения в начальной школе.
Вертели так и этак, прикидывали, взвешивали и… пришли к мысли, что все-таки правильно: «клавиатурное» — от слов «клавиши, клавиатура».
Коли правильно — можно и успокоиться. Тем паче что и ребята в литобъединении придерживаются той же точки зрения. Ум, как известно, хорошо, два — лучше, а тут вон сколько умов сразу!
На следующем занятии Коля просветленно возвестил:
— Олухи мы все! Не клавиатурное, а колоратурное сопрано…
Точно ведь, колоратурное! И что за наваждение, как это мы все забыли?
— Ты-то каким образом вспомнил? — спросили его.
Ухмыльнулся загадочно:
— Нашлась добрая душа, просветила…
С той же самой поры держу в памяти и четыре строчки из другого его стихотворения:
Июньский пленум
Решил вопрос:
Овсом и сеном
Богат колхоз…
Продолжения не помню.
Едкие, насмешливые стихи. «Писал на политзанятиях», — признался.
Гаджиева, 9
В Североморске до поры до времени моим пристанищем стал дом № 9 по улице Гаджиева. Мы четверо — Стае Панкратов, Володя Соломатин, Юра Кушак и я — жили коммуной, и это была необыкновенно замечательная жизнь! Комната, заставленная узкими солдатскими койками и раскладушками. Два стола с грудами рукописей на них. Пишущая машинка «Москва» с разболтанным шрифтом. Фотокамера на подоконнике. Книги — тоже на подоконнике и на полу, стоиками.
Ребята, конечно же, и не подумали запастись в зиму дровами, а дом был тот еще — финский, «сборно-щелевой», битком набитый сквозняками и морозом! В разверстую пасть прожорливой печки летело все, что подвертывалось под руку: подшивки газет, старая обувь, черновики. Прогорало моментально, тепла не набиралось и столько, чтобы у приоткрытой дверцы согреть руки. Кушак и Соломатин спали не раздеваясь, в пальто и шапках, мы со Стасом держали форму: отбивая дробь зубами, разоблачались до трусов, ныряли под одеяло, как в прорубь во льду. В какую-то особо лютую минуту родился лозунг: не возвращаться домой без полена! Научились прихватывать у заборов, благо темень — хоть глаз выколи. Соломатин однажды перестарался: выдергивая полешко, развалил всю поленницу, зашиб ногу. На шум выскочил хозяин, спустил на Володьку здоровущего пса. Спасение было в одном: отбиваться поленом. И Володька остервенело отбивался и вернулся к родному очагу искусанным, хромым, но — победителем, с трофеем под мышкой.
Потолок в своей обители мы сплошь залепили фотографиями, а Новый год встречали у елки, подвешенной к этому самому потолку, причем висела она, украшенная черновиками и авторучками, макушкой вниз. Вечером первого января елку со всеми украшениями торжественно сожгли все в той же печке.
— Весело живете, парни, — позавидовал Рубцов, навестив нас в увольнении. — Я про вашу хату песню сочиню.
Песни «про нашу хату» он не сочинил, но наведывался часто. А однажды, когда живший за стенкой сосед пришел ругать нас за то, что не топим печь и воруем его тепло, Коля поднялся со стула, простер длань с указующим перстом и торжественно изрек:
— Вы грубый, невоспитанный человек в грязных сапогах. Вам нет места в этом храме. Немедленно выйдите вон!
Ошарашенный сосед, тупо моргая, послушно скрылся за дверью. Мы рассмеялись.
— С чего ты про сапоги завернул? Он же в шлепанцах ввалился.
— Мне показалось, что в сапогах. В грязных, — на полном серьезе ответил Рубцов.
Навряд ли он сохранился до нынешних дней, этот дряхлый дом на улице Гаджиева. А я вспоминаю его, как вспоминают молодость: с теплой грустью в душе. Хватило в нем места и для Ильи Кашафутди-нова, и для Олега Лосото, и для Володи Ивачова, когда их тоже позвали служить в газету, и для многих других отчаянно неустроенных и отчаянно веселых парней.
Нет уже в живых Володи Соломатина, работавшего после Севера в секретариате «Литературной России». Умер Коля Рубцов. Мы, живые, порой не встречаемся годами. Но если повезет, если столкнемся на каком-нибудь писательском совещании — разговор невольно начинаем так:
— А помнишь, на Гаджиева, девять…
2
Редактор флотской газеты Михаил Ефремович Овчаров, несмотря на полковничьи погоны, был добрейшей души человек. Он обладал драгоценным даром подметить любой мало-мальский талант. Сколько возился он с нами, молодыми, как щедро открывал страницы газеты для наших стихов, рассказов, очерков, как много сил и сердечного жара вложил в выпуск нашего альманаха «Полярное сияние»!
Имя Николая Рубцова, как и имена других флотских поэтов и прозаиков, все чаще появляется в печати. И не только под стихами (или над заголовками таковых). Вот, к примеру, любопытная цитата из фельетона Георгия Семенова, обрушившего свой сатирический бич на графоманов. Поучая их необходимости бережного отношения к поэзии, к слову, фельетонист говорит: «…к 25-летнему юбилею Флота вышел литературный сборник „На страже Родины любимой“. В нем напечатаны стихи военного летчика Василия Выхристенко, подводника Владимира Жураковского, радиотелеграфиста Александра Про-ценко, дальномерщика Николая Рубцова… Не вдаваясь в анализ творчества начинающих флотских поэтов, хочется отметить, что на каждом стихотворении, вошедшем в сборник, лежит печать трудолюбия. Сами же авторы ничем не выделяются среди окружающих, это скромные люди… Все они познали первую радость творческого успеха, влившись в литературное объединение…»
Пишущий жаждет печататься. Это естественно. Нам мало было газеты, хотелось видеть свои творения на страницах книг
Политуправление пошло навстречу: выпустили несколько сборников.
Аппетит приходит во время еды: возжелали постоянного издания. Всерьез мечтали о журнале для Северного флота, стопроцентно убежденные, что по художественным своим достоинствам не уступит он ни «Советскому воину», ни «Советскому моряку». А ежели очень постараться — можно и переплюнуть их.
Наверно, в тщеславном своем честолюбии мы так запугали будущих своих конкурентов, что в журнале нам отказали наотрез (иначе и быть не могло). Зато разрешили альманах журнального типа, который и нарекли мы «Полярным сиянием».
Владимира Васильевича Матвеева, в то время капитана, начальника отдела культуры в газете, мы по-свойски звали Володей. В расположении духа любил Володя рассуждать о поэзии, о месте каждого в ней. Чтобы быть понятней, привлекал на помощь астрономию.