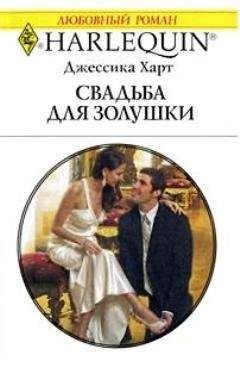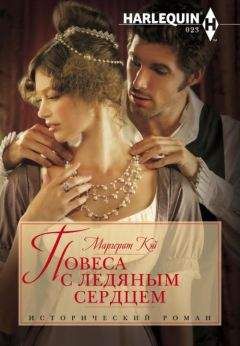Генрих Гофман - Гитлер был моим другом. Воспоминания личного фотографа фюрера
Можно представить себе, как это сказывалось на семейной жизни. Мужья встречали столько женщин моложе, элегантнее, очаровательнее и умнее, чем их жены, что многие семьи неизбежно распадались. Кое-кто даже цинично прозвал ближайший круг Гитлера приемной суда по бракоразводным процессам.
Будучи дочерью артистов, моя жена, к счастью, с раннего детства привыкла к постоянной спешке и переездам. Пожалуй, ей даже нравилось волнение такой жизни. К тому же ей щекотал нервы мой успех и растущее влияние, но только в той мере, в какой это касалось профессиональной и творческой деятельности. Ко всем политическим событиям она относилась с долей презрения, а иногда и совершала поступки, из-за которых мы оба попадали в неловкое положение.
– Ты добился бы такого же успеха в любом другом месте, – бывало, вдруг вскричит она, – а за границей мы, по крайней мере, вели бы нормальную, спокойную жизнь! Ты женился слишком рано и застрял в этой стране, вот в чем твоя проблема! Представляешь, как бы ты прославился в большом мире, а не здесь у нас!
Понятно, что подобные высказывания не могли вызвать сочувствия в партийных кругах.
Мы встречались, когда и где только была возможность. Очень часто она садилась на поезд или самолет, чтобы провести со мной всего несколько дней. Чаще она присоединялась ко мне на особых мероприятиях, подобных Байройтскому фестивалю или партийному съезду, но очень редко мы начинали или заканчивали поездку вместе.
От Олимпийских игр, на которых мы с моими помощниками сделали более 6 тысяч фотографий, и на соревнованиях по зимним видам спорта в Гармише, и собственно на берлинских играх, она получала огромное удовольствие. Благодаря тому что моя жена знала несколько языков, ее просили помочь с приемом огромного количества иностранных гостей, хлынувших в Берлин со всего мира. Во время игр каждый день устраивались званые вечера и приемы, а когда игры закончились, она, счастливая, но изнемогшая, в шутку сказала мне:
– Ну, Хайни, если я приму все приглашения погостить, которыми меня завалили наши благодарные гости, мне придется оставить тебя на пару лет.
Только однажды мы получили возможность по-настоящему отдохнуть вдвоем. Это было в 1935 году, когда после серьезной болезни я несколько недель поправлялся в Лидо. Правда, мы еще провели вместе два очень приятных отпуска, хотя и не таких мирных.
Осенью 1936 года доктор Геббельс с женой отправлялись с официальным визитом в Грецию и любезно пригласили нас с собой. Мы всегда были очень дружны с маленьким доктором. Иногда у нас бывали мелкие разногласия, как в тот раз, когда он пытался дисциплинировать меня и заставить носить нашивку, и в другой раз, когда я рассказал Гитлеру о том, как попробовал себя в качестве кинопродюсера и сценариста, а он настоял на том, чтобы посмотреть фильм, поскольку у меня осталась копия.
Таким образом, в рейхсканцелярии состоялся показ, при этом Гитлер, Геббельс и я сидели в первом ряду.
Когда парикмахер по фамилии Пинзельвайх, какую я ему придумал, впервые появился на три четверти экрана, Гитлер повернулся к Геббельсу и оценивающе сказал:
– Отличное создание образа.
Но фильм продолжался, и вдруг я чуть со стула не упал. «Боже мой, – подумал я, – как же я мог об этом забыть!» И тут же я услышал резкую отповедь Геббельса.
– Не ожидал от вас такого плохого вкуса, – возмущенно прошипел он, поднялся с места и вышел из зала.
Прошло почти двадцать лет с тех пор, как мы сняли фильм, и у меня совершенно вылетело из головы, что наш парикмахер косолап![6]
Иногда и я становился жертвой язвительного языка доктора Геббельса, хотя он легко обижался, зла не таил и обладал живым чувством юмора. Он был тщеславен, честолюбив и очень чувствителен к своему изъяну; но одновременно он, безусловно, был одним из первейших умов и смельчаков всей нацистской иерархии.
Мы прилетели в Афины на спецсамолете Геббельса и провели в этой прекрасной и древней стране очень приятную неделю, хотя и чересчур обремененную официальными приемами.
Неуклонно увеличивающийся спрос на мои фотографии и постоянные разъезды с Гитлером почти не оставляли мне времени, чтобы осмыслить события, сменявшие друг друга с головокружительной быстротой, или особенно задумываться о том, как и когда всему этому придет конец. Кроме того, в те годы никто из окружения Гитлера не посмел бы выражать личное мнение, пока его об этом не спросили. Ближний круг Гитлера следовал принципу, выраженному в классической присказке старшины британской армии, хотя скорее всего никогда ее не слышал: «Тебе платят не за то, чтоб ты думал, а за то, чтоб ты выполнял приказы!»
Поскольку я был личным другом Гитлера без всякого официального статуса, он часто интересовался моим мнением – разумеется, не о плюсах или минусах того или иного политического хода, но желая услышать непредубежденный и неприкрашенный рассказ о том, что думает народ. Но и при этом Гитлер ужасно не любил выслушивать неприятные вещи (на высказывание которых практически я один имел сомнительную монополию), и, слушая, он постоянно прерывал меня резким замечанием: «Я неприятно удивлен, Гофман, что вы верите каким-то глупым сплетням».
Народные массы противоречиво реагировали на то, как развивались события. Сначала они побаивались, так как Гитлер шел на явно и очень рискованные шаги; но по мере того как один за другим следовали дипломатические успехи, росло и доверие к Гитлеру – и не только доверие, но и энтузиазм, и немецкий народ стал жить под девизом «Гитлер во всем разберется». Точно такую же позицию занял и я без особых раздумий: очевидно, Гитлер знает, что делает, и, если временами я сомневался в мудрости какого-то политического хода, что ж, выходит, я ошибался.
А вот моя жена реагировала совершенно иначе. У нее было много друзей и знакомых в артистических и музыкальных кругах и вообще среди людей, не имевших никакого отношения к партии. Ее политические взгляды были им хорошо известны, и потому друзья были склонны говорить с ней гораздо более свободно и открыто, чем, например, со мной. Когда я приходил в их компанию, она не один раз встречала меня примерно такими словами: «А, ну вот и он! Теперь скажите все это ему лично, чтобы он понял, что не только я тут подрывной элемент!»
Она была убежденной пацифисткой и обладала умом и восприимчивым воображением, которое позволяло ей со всей ясностью видеть надвигающуюся опасность; да и секрета из своих опасений и ужасов она не делала даже перед Гитлером, и меня немало удивляло смирение, с каким он выслушивал ее мнение по некоторым вопросам. Однажды осенью 1938 года, когда мы находились с Гитлером в Бергхофе, зашел разговор о войне.