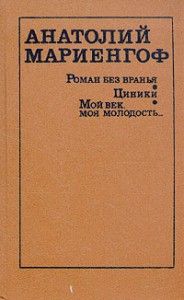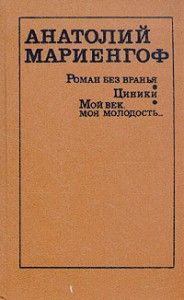Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
Лавренёв писал: «Растущую славу Есенина плотно захватили ошмётки уничтоженной жизни, которым нужно было какое-нибудь большое и чистое имя, прикрываясь которым можно было удержаться лишний год на поверхности, лишний час поцарствовать на литературной сцене ценой скандала, грязи, похабства, ценой даже чужой жизни. Есенин был захвачен в прочную мёртвую петлю. Никогда не бывший имажинистом, чуждый дегенеративным извертам, он был объявлен вождём школы, родившейся на пороге лупанария и кабака, и на его славе, как на спасательном плоту, выплыли литературные шантажисты, которые не брезговали ничем и которые подуськивали наивного рязанца на самые экстравагантные скандалы, благодаря которым в связи с именем Есенина упоминались и их ничтожные имена. Не щадя своих репутаций, ради лишнего часа, они не пощадили репутации Есенина и не пощадили и его жизни…»
Здесь всё яростно, громоподобно, через дюжину лет за такие обвинения ставили к стенке, но пока можно было пожать плечами и вздохнуть. И Есенин никогда не был наивным, а скандалить любил куда больше, чем все его товарищи, вместе взятые, и вождём он объявлял себя сам — при том, что Шершеневич и Мариенгоф не спешили признавать его первенство, и «тело, Христово тело» он выплёвывал изо рта, когда ещё имажинизма не было в помине, а дошёл до самоубийства ровно за тот год, когда с главными имажинистами расстался — в поисках новой почвы, которой так и не нашёл, а нашёл только табуретку в «Англетере».
Пафос Лавренёва объясним лишь тем, что, во-первых, ему жалко Есенина, а во-вторых, он терпеть не мог поэзию остальных имажинистов. Но в целом автор памфлета находился вне описанной им темы.
Однако такой подход часто кажется сторонним людям убедительным — всем хочется, чтоб за каждую трагическую смерть кто-нибудь ответил, желательно конкретный персонаж или даже ряд персонажей.
В первоначальной редакции этой статьи Лавренёв прямо называл, кого именно он обвиняет — Мариенгофа и Кусикова. Названные, кстати, друг друга всегда недолюбливали и старались держаться друг от друга подальше.
Но так как Кусиков к тому моменту давно эмигрировал, то в прицеле оставался вообще один «дегенерат» — Мариенгоф.
Имажинисты через Всероссийский союз поэтов попросили Лавренёва объясниться. Лавренёв ответил открытым письмом Мариенгофу: «…считаю себя в полном праве считать Ваше творчество бездарной дегенератской гнилью… В Вашем праве путём печати доказать, что не Вы с Кусиковым, а я создал вокруг Есенина ту обстановку скандала, спекуляции и апашества, которая привела Сергея к гибели. Если у вас есть для этого данные, — пожалуйста. Я же с вами ни в какие объяснения вступать не желаю, ни на какие суды с вами не пойду».
Каков!
На такие обвинения надо было отвечать. Но ни в коем случае не оправдываясь, а просто рассказывая — как оно было. Благо, что фактически все свидетели были на тот момент живы — и опротестовать неверно изложенные факты мог любой из них.
В 1926 году Мариенгоф издаст маленькую книжечку «Воспоминания о Есенине», очень спокойную и выдержанную. Единственное, что он себе позволит: сказать, что у Есенина были не очень красивые глаза.
Написать текст — и не вызвать хоть чьё-то раздражение: в те годы это было не в стиле Мариенгофа. Хоть про глаза, но ввернул.
Потом он подумает-подумает и дополнит книжечку настолько, что сможет её со свойственным ему дендистским шиком и цинизмом назвать «Роман без вранья».
Выпустит книжку ленинградское издательство «Прибой».
Скандал будет: ух!
Ещё бы: во всех красках расписать юные похождения знаменитых поэтов, а Есенина неожиданно преподнести не как херувима, голубей целующего в уста, а как глубоко непростого и мятежного человека, последние два года жизни которого были прямой дорогой в петлю.
Роман два раза подряд переиздали и при этом ругали почти все: и Горький, и советская пресса, и друзья Есенина (за то, что Есенин не настолько хорош, как надо бы), и враги Есенина (за то, что Мариенгоф слишком любуется своим другом), и моралисты всех мастей, и всякие пошляки тоже.
Пытались обвинить во вранье, вынесенном в заглавие, — но никто по большому счёту не смог.
Напротив, Иван Бунин, сжимая челюсти, в своей надменной манере повторял: смотрите, какой талантливый роман — как точно и честно описана мерзкая жизнь всей этой мрази (Иван Алексеевич и Мариенгофа не терпел, и Есенина не жаловал).
Владислав Ходасевич повторял практически то же самое, но, как и Лавренёв, пытался отобрать хорошего Есенина у плохого Мариенгофа. Хотя, учитывая то, что Ходасевич, как и Лавренёв, жил в Петрограде, а в 1922 году вообще эмигрировал, истинное положение вещей в жизни Есенина он мог только вообразить, нафантазировать.
Сказать, что Мариенгоф болезненно переносил ругань и обвинения, даже такие, как письма Лавренёва, — значит, солгать. Никаких свидетельств об этом нет: напротив, Мариенгоф периодически и нарочито шёл на скандал, и когда скандал начинался, не без удовольствия наблюдал за происходящим.
Человек, который сам обвинил себя в равнодушии к агонии матери и смерти отца — неужели он мог всерьёз огорчиться из-за какого-то там Лавренёва?
Чего в «Романе без вранья» нет — так это попытки оправдаться или приукрасить действительность: да, скандалили, да, гостили в притоне, да, расписывали стены Страстного — но вы всё это знаете по слухам и пересказам, зато я — очевидец и соучастник, поэтому слушайте и запоминайте.
На долгие годы «Роман без вранья» стал легендарным сочинением, о нём обязательно упоминали в послесловиях к бесконечным переизданиям есенинских стихов как о гадком пасквиле. Однако массовой публике перечесть его удалось только в конце XX века.
Специалисты просмотрели с карандашиком, сопоставили факты, перепроверили даты и…
И здесь окончательно выяснилось, что ничего чудовищного в этой остроумной и меткой книжке нет.
Мариенгофу нужно было просто поверить — он знал, что описывал, как никто другой.
ОЧЕРЕДНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
Иногда возникает ощущение, что Мариенгофу было всё равно, что сочинять: стихи, романы, пьесы, теоретические трактаты, драмы в стихах или мемуары.
Ощущение это верно лишь отчасти, но он действительно обладал личностным зрением, своей, как Есенин это называл, словесной походкой, своим, в конце концов, шармом — и мог в разные, а то и в одни и те же периоды успешно проявлять себя в любых жанрах.
Есенин писал о себе — «Осуждён я на каторге чувств / Вертеть жернова поэм». Мариенгоф мог вертеть жернова чего угодно: главное, приспособиться к очередному занятию.