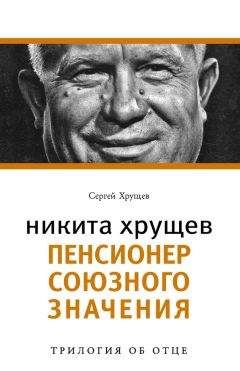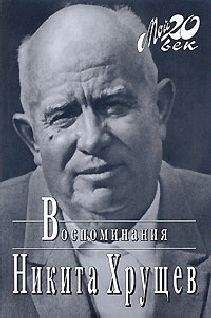Людмила Сараскина - Достоевский
Дети, исполняя волю отца, росли в отгороженном мире, их кругозор был стеснен рамками семьи. Мальчикам запрещались, как неприличные, шумные, игры в мяч и лапту. Пресекались не только знакомства в больничном саду, но и общение со сверстниками — «из товарищей к братьям не ходил никто».
«Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-то одни; это считалось отцом за неприличное, между тем, как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было уже 17, а брату Федору почти 16».
Быть бы таким детям буками и дикарями, но вместо этого — глубокая дружба и настоящая духовная близость старших братьев. Быть бы им темными, тупыми недорослями, но вместо этого — страстная любовь к книгам и редкая увлеченность чтением, долгое время заменявшая реальные впечатления. Но была ли строгость родителя следствием его деспотизма? Была ли атмосфера отчего дома невыносимой, омрачившей детство писателя? Можно ли горькие слова из «Подростка»: «Есть дети... оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей» — прямо отнести к автору романа? Ведь Ф. М. в те же годы называл свое семейство благочестивым — в отличие от семей случайных!
Воспитание детей Достоевских — явление непростое. Оно было поставлено таким образом (и тут дело не в холодном расчете, а скорее в интуиции родителей), что острые углы, если они были в детских характерах, не сглаживались, а заострялись; воображение, если оно было у кого-то из детей болезненным, не остужалось, а разжигалось; фантазия, если она уже была разбужена, постепенно начинала доминировать над действительностью. В этом смысле феномен отца, тяжелый нрав которого стал биографическим штампом, тоже неоднозначен.
Конечно, он ограничил свободу сыновей, вынудил их вести жизнь уединенную, заставил учить латынь и сам вел эти уроки.
«Братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол... Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив... При малейшем промахе со стороны братьев отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания» (А. М. Достоевский).
Но честнейший Андрей Михайлович не забудет упомянуть и об особой удаче своего детства: «В семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно, и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали телесно, — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит». Значит, вспыльчивость отца была не капризом деспота или распущенностью домашнего тирана, а одержимостью человека, мечтавшего о высокой судьбе своих сыновей. Жажда житейского благополучия, непременным условием которого он считал хорошее образование, требовала от него как от главы семьи незаурядных поступков. Уважая в детях их личное достоинство и щадя их самолюбие, он не поддался страху бедности и разорения и не отдал сыновей в гимназию, что обошлось бы много дешевле; он определил их в дорогой частный пансион, один из лучших в Москве, ибо «гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное».
Дети Достоевские не знали розог, как знал их, например, младший современник Ф. М. Лев Толстой и его герой, Николенька Иртеньев, дворянский отпрыск, на всю жизнь запомнивший и учительскую линейку, и угол для стояния на коленях лицом к стене, и свой стыд, свое отчаяние, свою ненависть к унижавшим его воспитателям. Писатель Достоевский — редкий, может быть, единственный представитель русской классической литературы, который не был бит в детстве.
...Старшие дети, до поступления в пансион, занимались с учителями. Дьякон И. В. Хинковский из Екатерининского института, учивший Закону Божию, русскому языку, арифметике и географии, являлся на дом и был удивительно хорош, воодушевлен, обладал необыкновенным даром слова. «К его приходу в зале, — писал А. М., — всегда раскладывали ломберный стол, и мы, четверо детей, помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне... Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню».
Ежедневно по утрам в своем экипаже братья ездили на полупансион к учителю Александровского и Екатерининского институтов Н. И. Драшусову, бывшему военнопленному наполеоновской армии по фамилии Сушард — тот учил их французскому языку, был принят в семье Достоевских и жил от них в двух кварталах, в одноэтажном домике на Селезневке, близ Тюремного замка. Дорога между тюрьмой и тюремной больницей проходила по Божедомке; братья могли видеть арестантов прямо из окон своей квартиры60. Взрослые сыновья Драшусова — Александр (будущий астроном) и Владимир (позже издатель газеты «Московский городской листок») — занимались с подростками математикой и словесными науками. Достоевский поприветствует «прежний пансионишко» в «Подростке»:
«Вот это — уроки из французской грамматики, вот это — упражнение под диктант, вот тут спряжение вспомогательных глаголов avoir и Ltre, вот тут по географии, описание главных городов Европы и всех частей света...» Однако Аркадию Долгорукову в пансионе Тушара повезет куда меньше, чем братьям Достоевским у Драшусова.
Пансион Леонтия Ивановича Чермака, куда братья Достоевские были устроены после года занятий у Драшусова, имел репутацию идеального закрытого учебного заведения для мальчиков благородного происхождения. Тем не менее резкий переход от замкнутой домашней жизни к обществу сверстников (братья приезжали домой в субботу к обеду и возвращались в пансион на Новую Басманную к утру понедельника) дался нелегко. К тому моменту, когда Федор вступил в мир «чужих», он был задумчивым белокурым бледным мальчиком: его мало занимали игры и даже во время рекреаций он не разлучался с книгами.
И в отрочестве, и в юности, и во взрослой жизни Достоевский гораздо меньше страдал от одиночества, чем от принудительного общения; «быть одному, — напишет он сразу по выходе из Омского острога, — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой...». Так, может быть, прав был отец, ограждая сыновей от докучливых сверстников? Аркадий Долгорукий запомнит свои 12 лет: «Все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения». Надо полагать, родители поняли своего одаренного сына Федора, не пытались исправить его натуру, не ломали характер, не усмиряли нрав, а каким-то образом укрепили его природные черты и дарования.