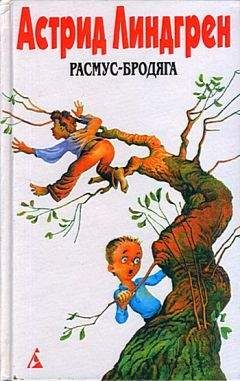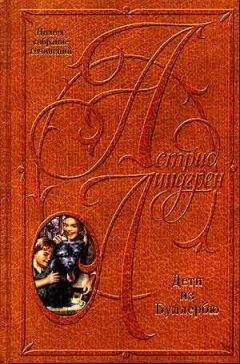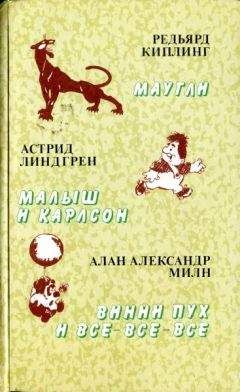Астрид Линдгрен. Этот день и есть жизнь - Андерсен Йенс
«Счастье, что в каждом поколении имеются сказочники, обладающие собственным голосом, – их с удовольствием слушаешь и не забываешь на фоне чудовищного сказочного производства – приметы нашего времени. Детей окунают в потоки журналов, воскресных приложений и дешевых рождественских тетрадей, пухнущих от наскоро записанных историй о троллях и принцессах».
Резкая критика была увековечена в справочнике «Ребенок и книги» и, возможно, объясняет, почему позже Астрид Линдгрен забраковала сказки и истории из «Ландсбюгденс юль» – а затем и из журнала «Морс хюльнинг» («Посвящение матери»), – назвав их «грехом молодости» и «дурацкими сказками». Она явно не гордилась этими произведениями, и поэтому со временем в исследованиях творчества Астрид Линдгрен стало догмой рассматривать порядка пятнадцати ее коротких прозаических текстов для детей в качестве курьезов, демонстрирующих разного рода художественные недостатки, которые автор преодолела к выходу в 1945 году «Пеппи Длинныйчулок». В том же году Ева фон Цвайберг совместно с коллегой, критиком Гретой Болин, и опубликовала свою работу «Ребенок и книги», в которой отмечала качественную, представляющую художественную ценность литературу для детей разных возрастов и клеймила писателей, поставивших сказочное производство на поток:
«Писать сказки такого рода, должно быть, так же просто, как и стряпать любовные сочинения для журналов, но гораздо безответственнее, если учесть, что предназначены они для детей, хотя, вероятно, их создают с безобидным намерением просто развлечь ребенка. Ведь детский ум податливее взрослого».
В наши дни, когда представление о ранних литературных опытах Астрид Линдгрен можно составить и сидя в архиве Астрид Линдгрен в Национальной библиотеке, и читая антологию «Чудесное радио Рождественского Деда» («Jultomtens underbara bildradio»), стоит детальней взглянуть на длинный затакт к ее творчеству. Конечно, эти пятнадцать сказок и историй пестрят клише, и, конечно, порой они столь же полны морализаторства, сколь и поносимые Цвайберг и Болин «сказки на случай», появившиеся в период между мировыми войнами. Но есть среди них и незамеченные жемчужины прозы – «Жених для Майи» (Maja får en fästman, 1937), «Подарок ко Дню матери» (Också en Mordagsgåva, 1940) и «Искатель» (Sakletare, 1941). Три текста, скорее рассказы, нежели сказки, и не совсем детские, ясно свидетельствуют о том, что в конце 1930-х Астрид Линдгрен развивалась как писатель и уже в это время стремительно формировался тот особый угол зрения, тот голос, благодаря которому она вошла в историю детской литературы наряду с такими классиками, как Ханс Кристиан Андерсен, Льюис Кэрролл, Джеймс Мэтью Барри и Эльза Бесков, в свое время тоже пытавшимися отобразить природу ребенка и встать на защиту его прав.
Конечно, в художественных текстах молодой Астрид Линдгрен 1930-х – начала 1940-х годов мы встречаемся с неуверенным, несмелым писателем, который еще только ищет свой стиль, свою манеру, но, с другой стороны, не боится ставить перед собой высокие и нетривиальные цели. Взять, например, дебютный рассказ «Чудесное радио Рождественского Деда», напечатанный в рождественском приложении газеты «Стокгольм тиднинген» в 1933 году, а в 1938-м переизданный в «Ландсбюгденс юль».
В рассказе читатель встречается с похожим на Лассе семилетним мальчиком, любопытным и отважным Ларсом из Бакгордена. Однажды он осмелился залезть в пещеру, а там, в совершенно обычном кресле, с наушниками на голове, сидел самый легендарный патриархальный персонаж на свете. Рождественский Дед лета 1933-го от Рождества Христова, онлайн, как мы сказали бы сегодня, перед высокотехнологичным радиоприемником с экраном, связанным с камерами наблюдения в домах всех шведских семей с детьми. «Понимаешь, – говорит Дед Ларсу, – ниссе [15] тоже должны идти в ногу со временем».
В Швеции и вправду наступили новые времена, и за пределами пещеры и мастерских Рождественского Деда. В кильватере краха на Уолл-стрит 1929 года Северную Европу поразила безработица и всеобъемлющий кризис в сельском хозяйстве и промышленности. И все же в Швеции – во всяком случае, среди более молодой части населения – проклевывались ростки надежды. Одни считают, что причиной оптимизма стала большая стокгольмская выставка 1930 года, где с помощью архитектурного функционализма визуализировалось новое время и новые мысли, новые здания в крупных городах, развитие автомобилизма, радио и звукового кино. Другие объясняют веру в светлое будущее приходом в 1932 году к власти социал-демократов. Мечту о Швеции – Народном доме нарисовал Пер Альбин Хансон, когда за четыре года до этого рассуждал о всеобщем благосостоянии, о том, что «в хорошем доме» нет «ни любимчика, ни пасынка, ни привилегированных, ни угнетаемых». Переход от бедности к обществу всеобщего благосостояния – феномену, который теперь неотделим от понятия «шведскость», – начался в 1930-е годы и охватил всю страну.

Стокгольм, 1933 г., счастливая семья. В письме к шурину Гуннару перед его свадьбой с Гуллан в 1931 г. Стуре замечает: «Испытываю неукротимую потребность сказать тебе, что брак – чудесный дар, который природа изливает на двух людей, созданных друг для друга, – и не только во время медового месяца». (Фотография: Частный архив / Saltkråkan)
Некоторые проницательные и наделенные воображением читатели рождественской истории в приложении к «Стокгольм тиднинген» за 1933 год, возможно, сочли, что футуристический Рождественский Дед символизирует новую шведскую власть, партию, которая год назад, благодаря обещаниям перераспределить общественные блага и предоставить гражданам равные права и возможности, образовала правительство. Неужели анонимный автор веселой рождественской сказки и правда нарядил в большую бороду и наушники премьер-министра социал-демократов Пера Альбина Хансона? Пожалуй, это чересчур вольное толкование литературного дебюта Астрид Линдгрен, пришедшегося на 17 декабря 1933 года, хотя старый добрый Санта-Клаус в ее исполнении весьма «продвинут», а то, что Рождественский Дед может следить за каждым гражданином с малых лет и выступать в роли стража нравственности, заставляет задуматься:
«Поскольку Калле уже давно плохо себя ведет, он не получит рождественских подарков».
В творчестве Астрид Линдгрен совершенно отсутствовало то, что она сама называла морализаторством и историями для воскресной школы. Но первые пару лет автору рассказов для «Ландсбюгденс юль», по-видимому, было трудно освободиться от старомодного нравоучительного тона, от фигуры ментора-повествователя: она с этим выросла, в ее смоландском детстве такие сказители водились и на хуторе, и среди родни. Дома, в квартире на Вулканусгатан, рассказывая истории Лассе и Карин, она редко прибегала к проповедям. А начать рассказывать историю могла когда угодно и где угодно, вспоминает Карин Нюман:
«Мама никогда специально не садилась рассказывать. История всегда из чего-то рождалась. Единственное исключение – перед сном, когда она должна была развлекать Лассе или меня чтением или рассказами. Она или сама что-то придумывала, или пересказывала, что знала».
В семье Линдгрен не было недостатка в ниссе и троллях – волшебных существах, приходивших из смоландских тайников памяти Астрид, из скандинавских народных сказок, из книжек с картинками Эльзы Бесков и Йона Бауэра, стоящих на полках, к которым прилежно обращались дети, Астрид и Стуре в 1930-е годы. По словам Карин Нюман, ее отец однажды отправился за новым костюмом, а вернулся с иллюстрированным датским двухтомником сказок Андерсена, который они читали и перечитывали. Андерсен всю жизнь простоял на полках Астрид Линдгрен рядом с другими любимыми в семье классиками: