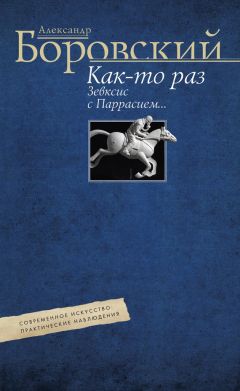Иосиф Бакштейн - Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
М. Вероятно, из-за того, что интерес к структурам – завоевание достаточно высокой культуры?
Б. Но в том была еще и какая-то макрофункция у людей, работающих в тот период. Из-за того, что все это послевоенное время было очень многоплановым и непонятным, с разными периодами и т.д., она требовала универсального осознания, репрезентации его в художественном материале. Шестидесятые годы были всплеском такого легализма, а тут, в семидесятых, впервые формируется альтернативное сознание и, следовательно, альтернативная культура в своей ясности и чистоте. Разумеется, потребность в чистоте и ясности позиции требовала того же и в личном горизонте. Не было размытости, запутанности, амбивалентности, которая есть теперь.
М. То есть вот эти глубины, объемы или каркасы структур порядка, в которых мы существуем, давали ощущение какого-то жилого помещения, в то время как теперь мы чувствуем себя «проездом», в поезде: то есть вылезли наружу, на поверхность – дует ветер со всех сторон и мы ничем не защищены. Этот ветер «фактуры» сбивает нас с ног, надо как-то держаться, за что-то цепляться. Мы лишены обжитого внутреннего пространства. Разумеется, это просто как общая экзистенциальная доминанта.
Б. Возможно, это связано вот с чем. В семидесятых была очень четкая политическая альтернатива. Предметом художественного осмысления и изображения все-таки являлись границы, проходящие между миром искусства и миром политической жизни.
М. Социальная ориентация была очень четкая.
Б. Конечно. Соц-арт именно тогда и сформировался. Постепенно же получилось так, что какой-то пласт вот этих социально-художественных границ был обработан, художественно преображен и какая-то ясность была достигнута. А потом эта ясность противопоставления оказалась утраченной…
М. Например, через булатовские, а затем и кабаковские «тавтологии», их «хамелеонские» работы…
Б. Я помню еще полемику с Гройсом, вся философия которого исходила из презумпции четкости границ между сферой официального искусства и неофициального. Эта оппозиция была источником целой смысловой толщи. А потом все стало двоиться. Ибо люди той культуры, того времени – и себя я к ним причисляю – каждый раз в очередной двусмысленной ситуации, типа той, что развернулась вокруг Чикагской ярмарки, – люди этого плана всегда повторяют только одно: не надо лезть, связываться, не надо никаких контактов, ни к чему это не приводит.
М. И обрати внимание, что сейчас речь идет постоянно об экономических мотивациях, через которые неофициальное искусство у нас может занять свое обычное, чисто эстетическое место. Оценка эстетических событий со стороны самих авангардистов переместилась в область экономических соображений.
Б. Мне кажется, что это как бы отражает процесс прогрессирующей деидеологизации в сфере общественной жизни: мы присутствуем в тот момент развития советской истории, когда искусство вроде бы выводится из сферы идеологии. Любопытно, что история с публикацией об «А – Я» в «Московской правде» тоже об этом свидетельствует, хотя там есть и попытка поставить знак равенства между неофициальным и антисоветским, правда, с условием этой привязки к какой-то колеснице эмигрантской культуры…
М. То есть как бы остатки идеологической борьбы, которая замыкается на эмигрантские дела…
Б. Любопытно, что власти каждый раз подчеркивают отсутствие претензий к самим работам, кроме тех, которые носят откровенно идеологический характер, где отыгрывается то же советское официальное искусство, только со знаком минус.
М. …Теперь возникает совсем новый этап, носящий такой как бы этический привкус. Я обратил внимание, что лично меня, когда я смотрю вещи, принадлежащие к новым генеральным направлениям, например работы группы «Детский сад», эти вещи меня несколько раздражают своей понятностью, ясной принадлежностью сфере искусства, оппозиции «человек и культура», в которой человек мыслится как некультурный, то есть создающий свою новую культуру, отбрасывающий старую и который опирается на свои психические амбивалентные состояния. Хотя, конечно, именно он, человек некультуры, декаданса, создает основу какой-то будущей культуры, тогда как человек в оппозиции «человек и реальность» мыслится таким, что ли, классиком, китайцем, охранителем, обреченным лишь на дальний горизонт культурного воспроизводства. И для такого «классика» в периоды «культурных взрывов», парадоксально отбрасывающих его на задний план именно из-за того, что он носитель личной культуры, противостоящей новой эстетической номаде, для него в такие периоды на первый план выступает этика, отношение сохранности каких-то достижений, в данном случае, как это ни странно звучит, ценностей авангарда, обнаруженных и выявленных в семидесятых годах в классическом концептуализме. То есть «отношение сохранности» для него одновременно и эстетическая (спекулятивная), и этическая категории. В этом смысле наша ситуация довольно уникальна. Так вот, к этим новым работам, сделанным в оппозиции «человек и культура», у меня, естественно, в эмоциональном смысле, отношение как бы скучное, хотя я и понимаю, что их работа необходима, ибо все-таки психическая автономия, как бы она ни была мучительна, – источник жизни языка, источник новых языковых просторов, неизвестности. А вот хорошо в эмоциональном и ментальном смысле я чувствую себя, когда смотрю работы, не оказывающие на меня никакого проблемного воздействия, когда я не вижу в них знаков вышеописанной мной энергетической и языковой перестройки, ее детерминированности. То есть я чувствую себя хорошо в контакте с теми работами, в которых я вижу привычное и комфортное для меня место философствования как процесса. Это место пустое, и более того, оно не нуждается в моем заполнении, не требует заполнения моими интерпретациями – герменевтическими, структурными, ассоциативными и т.д.
Б. Ты говоришь о качестве работ?
М. Скорее, о типе.
Б. Который кажется тебе более предпочтительным?
М. Да, который не раздражают сформированное и направленное на спокойное созерцание и как бы на более-менее комфортное чувство легкого неудовлетворения место в глубине моего сознания. И вот такой чисто этический критерий у меня почему-то обнаружился и по отношению к художественной продукции авангарда.
Б. А почему этический?
М. В каком-то смысле здесь речь идет о внутренней этике твоих собственных мыслительных или эмоциональных реакций по отношению к самому себе. Конечно, здесь есть что-то шизофреническое, расщепленное. Но с другой стороны, эта реакция так или иначе может вырваться и наружу, проявиться, например, в определенной окрашенности интонации во время обсуждения. То есть речь идет о глубинной этике, при включении механизма которой, возможно, оценка отношения способна и сохранить живость ситуации и в то же время быть более открытой, широкой. Но, кажется, это в том случае, если мы сумеем выскочить из диалектической борьбы оппозиции «человек и культура», «человек и реальность». О попытке этого «выскакивания» я и хотел бы здесь говорить.
Б. То есть основа твоих суждений чисто психологическая?
М. Да, конечно, но на уровне реакции.
Б. Но ведь реакция – это еще не нравственность. Это ведь чистое поведение.
М. Да, конечно. Более того, нравственность – это в каком-то смысле философия, а я здесь говорю о философствовании и глубинную этику понимаю как открытый поисковый процесс, аналогичный дискурсу, а может быть, даже как его заменитель.
Б. Но ведь тогда получается, что любая нравственная реакция может быть понятна эстетически. То есть предлагаемая тебе система ценностей не согласуется с системой более тонких, рафинированных ценностей, выработанных тобою. И твоя реакция на это, естественно, эмоциональная. Какую поведенческую форму, акт, поступок повлечет за собой, который может приобрести это нравственное оформление, – прямо такой связи здесь не просматривается.
М. Это очень интересное замечание. Но свою реакцию я оцениваю этически, поскольку эта реакция является предметом изображения тех работ, о которых я скажу дальше. И эта реакция – молчащая. То есть как бы по этому поводу нечего сказать. Я говорю о работах такого типа, которые незаметным образом создают приятную энергетическую среду, не привлекая к себе особенного внимания. Вот, например, когда ты видел мой черный ящик «Музыки согласия», ты говорил, что его как бы не видишь, его как бы нет. Мне кажется, что недавно такую вещь сделал Юра Лейдерман. Книжечка «Шли годы» представляет собой тетрадный разворот, левая сторона пустая, просто бумага в клеточку, на правой сверху, в простом орнаменте написано «Шли годы», под надписью прикреплена маленькая тетрадочка из нескольких листов, заполненных одинаковыми орнаментами, похожими на тот, что обрамляет надпись «Шли годы». Орнаменты внутренней книжечки даны как центр, контентность самой вещи. В ней есть место философствования, место открытия и возможности дискурса, но оно заполнено пустотой. Там пустота дается со знаком плюс, и сказать о ней уже нечего. То есть проблема словесного дискурса снята, хотя место для него оставлено; оно организовано, но заполнено пустотой в виде орнамента, как у Юры, или технической «футлярностью», как в моем ящике «Музыки согласия», или, например, технической же «связанностью» кабаковской веревки со спаренными фигурками человечков. От этой положительной пустоты идет ощущение своеобразной решенности. Здесь пустое место философствования дано в своей техничности, отрефлексировано в своей цельности. Вообще я рассматриваю такого рода языковую деятельность как следующий шаг после постструктурализма.