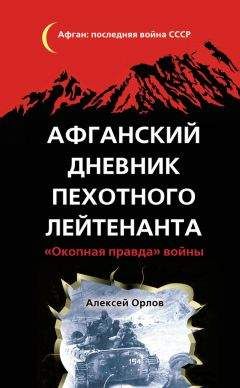Игорь Волгин - Последний год Достоевского
В 1906 году, к двадцатипятилетней годовщине со дня смерти Достоевского, В. Ф. Пуцыкович опубликовал в одной берлинской газете свои воспоминания. По его словам, говоря о «нашем будущем национальном представительстве», Достоевский разумел «наши земские соборы или что-нибудь несколько обновлённое, то есть вроде зарождающейся теперь государственной думы»[209].
В 1906 году Виктору Феофиловичу Пуцыковичу было шестьдесят три года. Переживший свой век консервативный публицист (из второго эшелона русских охранителей), он тоже принимает посильное участие в дележе великого наследства.
Но «вольный пересказ» не совпадает с текстом.
Что же предлагает Достоевский? Может быть, сохранить status quo, отказаться от каких бы то ни было решений, то есть, изъясняясь слогом князя В. П. Мещерского, поставить точку к реформам или – что то же, – по крылатому выражению Константина Леонтьева, «подморозить Россию»? Или же действительно, как полагает Пуцыкович, созвать для уврачевания отечественных скорбей нечто вроде Первой Государственной думы?
То, что предлагает Достоевский, не имеет с этими проектами ничего общего.
«Увенчание снизу»Он пишет: «Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то ещё никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего… если уж и начать его (увенчание. – И.В.), гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета»[210].
Говоря об «увенчании здания» (этот эвфемизм заменял обычно неудобопроизносимое слово «конституция»), Достоевский повторяет именно ту формулу, которую согласно некоторым мемуарным источникам употребил в своей речи Тургенев.
Его собственные предложения простираются гораздо дальше. Участникам тургеневского обеда не приходило в голову подвергать сомнению само здание, то есть всю систему русской государственности. Достоевский же поступает именно так.
Он верен себе: отстаивающая консервативные начала русской жизни, его программа радикальна по своей нравственной сути. Она предполагает национальное строение, основанное на прямом и непосредственном народоправстве – как первом шаге к осуществлению безгосударственного идеала («церкви»).
«…Есть одно магическое словцо, – говорит автор «Дневника писателя», – именно: “Оказать доверие”. Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»[211].
Народ – альфа и омега всей историософии Достоевского. «У нас либеральнее (чем завершение здания), – отмечает он в подготовительных записях к последнему «Дневнику». – У нас прежде всего народ спросить и только народ»[212].
Здесь за скобками оказывается не одна либеральная интеллигенция: за скобками остаются всё дворянство, чиновничество, центральная и местная бюрократия и, наконец, духовенство. Иными словами, в совете «всей земли» не участвует ни один из «надстроечных» элементов государства.
Русский царь, немыслимый без «обставляющих» его и исполняющих его волю государственных институтов, остаётся с народом лицом к лицу.
Но в этом случае так ли необходим он сам?
Для Достоевского подобный вопрос прозвучал бы кощунственно. Но если исходить из его собственных представлений, то в этой системе одно звено «невольно» оказывается лишним: как раз то, которое, по мысли автора «Дневника писателя», скрепляет всё.
Лишнее звеноЭто «звено» – носитель верховной государственной власти. То есть именно тот, на кого Достоевский делает ставку, пожалуй, не меньшую, чем на народ. Царь – «отец», народ – «дети», и если так, то только царь, и никто другой, способен оградить интересы народа и его свободу от посягательств сил, народу чуждых и враждебных: от притязаний аристократии, всесилия бюрократии и корыстолюбия буржуазии.
Русский абсолютизм становится гарантом русского народоправства: царь выступает в союзе с народом – против его исконных врагов.
Но «очищенный», изъятый из своей собственной социальной стихии самодержавный монарх (лишённый к тому же «привычных» рычагов управления) превращается в миф, абстракцию, нонсенс.
Излишне было бы говорить об идеализации Достоевским исторической природы самодержавия: это очевидно. Но столь же очевидно, что отчаянная попытка привить формы самой крайней, «сверхгосударственной» демократии к многовековой практике российского абсолютизма не могла не вызвать у автора этой идеи сильнейшие нравственные затруднения.
«Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царёвым, – заносится в последнюю тетрадь и добавляется: – ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит»[213]. «Что-то очень уж долго не верит» – эта сердитая, нетерпеливая, не предназначенная для «чужих» обмолвка выдаёт не только авторский темперамент, но и некоторое авторское разочарование в стратегии «верхов».
«Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит…» Служение предполагается не безоговорочное, но на известных условиях. А если не поверит? Достоевский старается об этом не думать – в данном вопросе он как бы заставляет себя стать на народную (исключительно) точку зрения: «Он (народ. – И.В.) не понимает, как монарх может его бояться, а поэтому не дать ему всей возможной гражданской свободы»[214].
Этого не желает понимать и сам Достоевский. Он как бы вменяет себе «массовый» (по его мнению) взгляд на носителя верховной власти и прилагает поистине титанические усилия, чтобы интегрировать, «вписать» абсолютного монарха в свою историческую утопию[215].
Но, повторяем, – это звено оказывается лишним.
Ибо если следовать внутренней логике того самого миропорядка, о котором печётся Достоевский, то в нём не остаётся места для русского самодержца. У общества, в котором на деле осуществлена полная духовная солидарность, нет необходимости в отделённом от него самого и вознесённом над ним носителе религиозного или национального духа.
Более того: если бы когда-нибудь российское самодержавие вздумало провести в жизнь ту этико-историческую программу, которую «передоверяет» ему Достоевский, это повело бы к его немедленному самоуничтожению. Историческая государственность была бы взорвана изнутри «внеисторическим» нравственным идеалом.
«Скажите теперь, какой ваш идеал?» – вопрошал он Тургенева, и «Вестник Европы» не без остроумия комментировал, что это – «пародия на великую историческую сцену: «рцы убо нам, достойно ли есть дати кинсон кесареви или ни» (то есть «скажи нам, можно ли или нет давать подать кесарю». – И.В.) – с присоединением к фарисейству мимики Пилата, задавшего вопрос и не дождавшегося ответа»[216].
Но справедливо ли обвинять Достоевского в своего рода идейном провокаторстве, если его вопрос носил заведомо риторический характер и был обращён не только к Тургеневу, а ко всей либеральной партии, причём без всякой надежды на убедительный ответ?
Да и что мог ответить Достоевскому Тургенев, если бы даже и захотел? Он лишь развёл руками: этот молчаливый жест означал, что они говорят на разных языках.
Изучение мотивов«Хорош Достоевский! – восклицал Анненков в письме к Стасюлевичу, – не распознал у Тургенева идеалов и пожелал на обеде его выставить его пунцовым драконом, каковые китайцы пишут на своих знамёнах… А между тем люди эти (Достоевский и Салтыков. – И.В.) не Авсеенки и Маркевичи и, несомненно, высокие таланты и честные деятели»[217].
Достоевский упомянут рядом с Салтыковым: за обоими признается «честность», хотя оба не любят Тургенева (это Анненкову перенести трудно!). Автор письма не задумывается над тем, что и у Салтыкова и у Достоевского – при всей разности политических убеждений – могут существовать какие-то сходные мотивы в их неприязни к автору «Дыма».
И всё-таки: почему Достоевский задал свой вопрос, почему он решился на этот бестактный выпад, который – а он не мог этого не предвидеть – неминуемо должен был повлечь публичный скандал и поставить вопрошавшего в положение двусмысленное и неловкое? Почему он всё-таки сорвался?
Позволим высказать предположение, что этот рискованный шаг был прежде всего неожидан для самого Достоевского. Его вопрос – не рассчитанный и заранее взвешенный тактический ход, не тщательно спланированная (как, скажем, речь того же Тургенева) общественная акция, а – чистая импровизация, импульсивный порыв, эмоциональная реакция на происходящее.
Если бы Достоевский промолчал, он не был бы Достоевским.