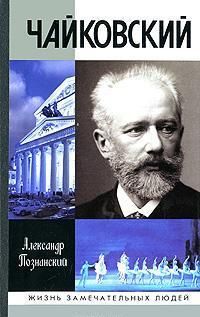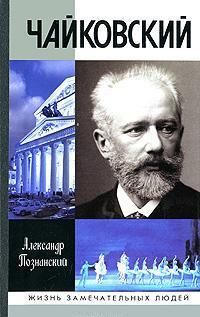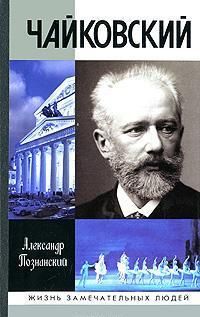Александр Познанский - Чайковский
Тягостное впечатление производит желание Чайковского окончательного разорения фон Мекк, и вообще в этом пассаже нет ни ноты сочувствия «лучшему другу». Но все же не стоит судить его слишком строго — в мгновения злобы и вспыльчивости он мог сказать или написать несправедливые вещи о близких людях, а переживаемая здесь после четырнадцати лет столь тесных душевных отношений горечь должна была быть особенно болезненной.
Юргенсон ответил 4 октября: «Несказанно поразила меня весть про Надежду Филаретовну. Я наравне с тобою думал, что она все устроила и наладила и обеспечила! Я помню то письмо 1881 года в Париже, которое она писала после твоего отказа от субсидии по случаю плохих ее дел. Она и тогда утверждала, что твоя доля никоим образом не может пострадать, и т. д. Черт ее знает! Я не знаю, что у них случилось, действительно ли крах или умопомрачение, но мне было очень, очень обидно за тебя, слезы как-то сидят в горле и хочется реветь, но — не могу. Надлежащим образом ничего не могу сообразить».
Несколько дней Чайковский находился в состоянии депрессии, и это отразилось в письме Бобу: «Ты не можешь себе представить, Боб, до чего я изленился на письма; почти совсем перестал их писать. <…> Это письмо я адресую тебе, но, пожалуйста, дай его прочесть и Моде, ибо лень писать ему отдельно. Скажи Моде, что ввиду изменившихся материальных условий моего существования я не хочу теперь нанимать в Петербурге отдельную квартиру, а просто помещусь в более или менее комфортабельном нумере в бывшей “Знаменской гостинице”. Итак, пусть Модя прекратит свои поиски роскошной квартиры». Только через две недели он написал об изменившихся материальных условиях Модесту, и короче, нежели в письме своему издателю: «Не знаю, говорил ли тебе в Москве Юргенсон о радикальном сокращении моего бюджета? Может быть, мое письмо к нему не дошло; я именно поручил ему сообщить тебе известие о себе, ибо писать тебе не мог по незнанию адреса. Н. Ф. фон Мекк написала мне, что разорилась и не может более посылать мне свою субсидию. Вот уж чего я никак не ожидал, ибо имел полнейшее основание считать эту субсидию навсегда для меня обеспеченной! Я мало огорчился уменьшением доходов, но… впрочем, о чувствах, возбуждаемых поступком Надежды Филаретовны, поговорю устно. Хочу, во всяком случае, попробовать жить менее en grand (на широкую ногу. — фр.)». Модест отреагировал 13 октября в той же растерянной интонации, что и Юргенсон: «Известие о твоем новом материальном положении немало способствовало тому, что я был в меланхолии. Само собой, не шесть тысяч рублей мне жаль (по-моему, эта беда невелика, потому что стоит тебе уничтожить субсидии вроде моей, и ты будешь почти в прежнем положении). Тяжел укол гордости, сделанный тебе».
Укол этот не заживал. Печально, что Чайковский не задумался (во всяком случае, это не отразилось в известных нам письмах) о том, что ее могли вынудить к этому решению ее непреодолимые обстоятельства. Ведь формально никакого разрыва не произошло. В прежние времена бывало, что при обострении болезни, когда Надежде Филаретовне становилось трудно писать самой, ее временно заменял Пахульский. Так случилось и на этот раз. Не получив ответа, Петр Ильич снова обратился к ее зятю-секретарю.
Письма Чайковского к Пахульскому за этот период утрачены. Они известны лишь в кратких выдержках и переложениях в комментариях советского издания «Переписки с фон Мекк», и судить о их общем характере трудно. Ответные письма, опубликованные в новом издании переписки, представляют собой подробные отчеты о ее состоянии, о визитах врачей, предписанном режиме и некоторых деталях болезни. Так, например, 28 октября 1890 года Пахульский сообщил Чайковскому: «Мы все до настоящего времени в Москве по причине болезни Надежды Филаретовны, которая уже больше трех недель страдает бронхитом. В прошлом году в Ницце была у Надежды Филаретовны инфлюэнца, которая заставила ее в продолжение трех месяцев оставаться в комнате. Хотя теперешнее ее состояние и менее серьезно, чем прошлогоднее, однако, так как мы находимся в суровом московском климате… опасения наши больше и желание одно, как только состояние Надежды Филаретовны позволит, уезжать в Ниццу. <…> Угрожает нам опасность зимовать в Москве, и при этом болезнь Надежды Филаретовны затянется и излечение сильно затруднится. Надежда Филаретовна преимущественно в постели. Пользует ее доктор Шаталов, и лечение пока идет как следует. Очень может быть, что Захарьин будет приглашен для того, чтобы его взгляд на состояние Надежды Филаретовны был известен. Вы понимаете, глубокоуважаемый Петр Ильич, что вся жизнь наша крайне тревожная, и простите, что раньше не писал. <…> Николай Карлович теперь здесь».
Постоянное присутствие доктора и детей в доме, постельный режим, приглашение знаменитого московского врача Григория Захарьина и замечание о «тревожной жизни» дают представление о серьезности болезни фон Мекк. Упоминание в письме Николая свидетельствует о том, что его жена Анна могла обладать информацией из первых рук, что придает ее воспоминаниям бблыпую достоверность.
Три ноябрьских письма Пахульского представляют собой бюллетени о ходе болезни его тещи. 3/15 ноября он сообщал композитору, что два врача, Захарьин и Поспелов, «признали положение Надежды Филаретовны очень серьезным. <…> Теперь лечение… взял на себя Захарьин, и потому есть надежда, что оно будет ведено безупречн[о]. <…> Только что Юлия Карловна поручила от Надежды Филаретовны сказать Вам, многоуважаемый Петр Ильич, что, со слов Надежды Филаретовны, она чувствует себя очень больной и что состояние моральное ее очень скверное!» В двух остальных письмах, написанных в более приподнятых тонах, говорится, что после визитов врачей настроение ее несколько улучшилось, она обрела веру в возможное выздоровление и даже начала слушать музыку. Пахульский сыграл ей на рояле ее любимые вещи: «Не можете себе представить, Петр Ильич, как тронула Надежду Филаретовну музыка. Она расплакалась и пришла в дивное состояние. Мы боялись, как бы это не повредило, но оказалось наоборот — после музыки Надежда Филаретовна стала себя много лучше чувствовать». И далее: «Надежда Филаретовна передает Вам самый сердечный привет и глубокую благодарность за внимание».
Сохранилось семь писем Пахульского композитору за
1891 год о здоровье фон Мекк. 3/15 января он уведомляет композитора, что лишь весной они смогут, в сопровождении врача, выехать в Ниццу. Захарьин бывает у них раз в неделю, его ассистент наведывается каждый день. Надежда Филаретовна «почти весь день в кресле, что и составляет большой успех в лечении, так как было время большого ослабления, что Надежде Филаретовне казалось, что не будет больше в состоянии встать с кровати. Распределивши дневные занятия, тоже за исключением прогулки и катания, т. е. Юлия Карловна и я много читаем вслух». Отвечая на его вопросы, Пахульский отметил: «Прошу Вас сердечно извинить меня, что моей оплошностью и неаккуратностью довел Вас до предположения, которое совершенно противоположно тому, что чувствуют к Вам все, кто имеет счастье быть Вам близким. Надежда Филаретовна, которой я дал читать Ваше письмо, велела передать Вам, “что это невозможная вещь, чтобы она когда-нибудь на Вас сердилась и что отношение ее к Вам неизменно”. Виноват во всем я, а относительно меня — обстоятельства жизни, которые суетят меня и выбивают из седла. <…> Что касается 3-го вопроса в Вашем письме, то ответ на него очень прост: все у нас любят Петра Ильича и удивляются и восхищаются величайшим русским композитором. Успех “Пиковой дамы” радует нас всех бесконечно, и хотя, по нашему мнению, он является и весьма обыкновенной вещью, потому что это есть только должная дань Вашему гению, но приятно видеть, что публика дорастает до понимания Ваших произведений. Одним словом, все и непременно так же, как всегда, и дай Бог, чтобы Вы не переменили Вашего доброго отношения». 8 января Пахульский писал, что «состояние Надежды Филаретовны все такое же, т. е. не хуже, а улучшение получится только в Ницце», поклон от Петра Ильича он, разумеется, передал, и она шлет в ответ «душевное приветствие». Приветы и поклоны следуют и на протяжении нескольких следующих писем.