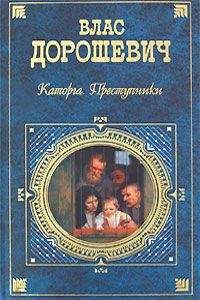Семен Букчин - Влас Дорошевич. Судьба фельетониста
Одна из приятельниц Ольги Николаевны, жена известного драматурга, привезла с собой из Киева разбитного молодого человека нагловатой наружности. Муж актрисы был так же высок ростом, как Дорошевич, и поэтому карманы его костюмов болтались у этого молодого человека ниже колен. Но это никого не смущало. Они быстро подружились с Юрьевским, вдвоем обрабатывали дорошевичскую библиотеку, постепенно вынося из нее сначала тома на выбор, потом большие пачки книг.
Перу молодого человека, начинающего журналиста, принадлежали нагловато-лживые, ловко и развязно составленные корреспонденции о здоровье Власа Михайловича, которые появлялись в газетах и выдвигали выгодную версию о его сумасшествии.
В кабинет к Власу забредали порой весьма странные гости: то ворвался ночью какой-то грузин с бокалом вина и закричал восторженно: „Пью здоровье славы русской литературы!“ То вошли несколько моряков, вежливо поздоровавшихся, несмотря на то что были изрядно пьяны, и сказали:
— Хотим пожать руку известному русскому писателю. Стояли на корабле „Витязь“ у берегов острова Сахалин.
Однажды, когда я там ночевала, Ольгу приволок за волосы в кабинет сам Юрьевский, горько плакал и сетовал:
— Этой женщине верить нельзя! Как вы могли ей верить?
Влас Михайлович был очень слаб, он уже не мог реагировать так, как сделал бы это раньше, на все эти отвратительные события, выбросить всех вон пинком. Он весь сник, днем сидел в глубоком мягком кресле, ночью лежал и стонал. Читал Достоевского. Иногда мы с ним играли в примитивные карточные игры.
Как-то при мне посетил его Корней Чуковский, человек любопытный и дотошный. Он долго выспрашивал Власа Михайловича о его мыслях, планах, желаниях, ощущениях и, видимо, очень того утомил. Потом спросил, что он собирается делать в ближайшее время.
Я видела, как рассердился отец.
— Буду кормить слонов рисовой соломой, — сказал он неприязненно.
У Корнея Ивановича вытянулось лицо.
— Каких слонов, где они?
— На бархатной дорожке перед дворцом ходят.
Когда посетитель ушел, я разозлилась в свою очередь:
— Вас и так сумасшедшим хотят сделать, а вы поддерживаете. Ну, зачем вы это делаете?
Он поднял на меня глаза совсем несчастного, больного, разбитого человека.
— Знаешь, мне так удобнее, я прячусь от них. Можно ни за что не отвечать, ни о чем не думать, а ведь я даже и в комнату уже выйти не могу»[1391].
Об этой встрече имеется запись в дневнике Чуковского. В январе 1922 года вместе с Замятиным, Кусиковым и Пильняком он зашел к поэтессе Марии Шкапской, жившей на Петроградской стороне в доме страхового общества «Россия». Там, посреди пирушки «вдруг кто-то сказал, что в соседней комнате Дорошевич.
— То есть какой Дорошевич?
— Влас Михайлович.
— Не может быть!
— Да. Он болен.
Я не дослушал, бросился в соседнюю комнату — и увидел тощее, мрачное, длинное, тусклое, равнодушное нечто, нисколько не похожее на прежнего остряка и гурмана. Каждое мгновение он издавал такой звук:
— Га!
У него была одышка. Промежутки между этими га были правильные, как будто метрономом отмеренные, и это делало его похожим на предмет, инструмент, — а не на живого человека. Я постоял, посмотрел, он узнал меня, протянул мне тощую руку, — и я почувствовал к нему такую нежность, что мне стало трудно вернуться к тем, пьяным и еще живым <…> В комнате была какая-то высокая дева, которая звала его папой — и сказала мне (после, в коридоре):
— Хоть бы скорее! (т. е. скорее бы умер!)»[1392].
«Высокая дева» — это Наташа. Она была ростом в отца. Осуждать ли ее за эти слова? Ей было семнадцать лет. Она измучилась, недоедала, ходила в дворницком полушубке и рваных башмаках, была всем чужой. Между отцом и ею была стена — его болезнь, его мучения и, скорее всего, мнимое сумасшествие, которым он отгораживался от всех. Естественно, что распространялись слухи: Дорошевич сошел с ума, бредил, воображал себя Дантоном, балериной и даже музыкой[1393].
В ту же приблизительно пору, когда его навестил Чуковский, наступило улучшение. «В январе Дорошевич стал ощутительно поправляться. Он оживился, начал шутить и даже вновь принялся за работу», — сообщал журнал «Экран». Но это был совсем недолгий период. «Скончался Дорошевич неожиданно, внезапно и тихо, за ужином, при жене и близких. Смерть его, после нескольких лет мучений, была как бы в награду легка и безболезненна. Дом литераторов не принял никакого участия в похоронах. За гробом шли три человека, включая жену. Гроб на салазках тащил четвертый»[1394].
Он умер в ночь с 22 на 23 февраля 1922 года. Наталья Власьевна вспоминала: «Отец был в меру суеверен, как все его поколение. В числе маленьких странностей была у него боязнь двадцать третьего числа, дня его рождения. Может быть, именно поэтому в ночь с двадцать второго на двадцать третье февраля 1922 года ему стало особенно скверно. Я пробыла с ним почти весь день, ушла в сумерках, а ночью он умер».
Откуда взялось двадцать третье число как день рождения Дорошевича? По старому стилю он родился 5 января, по новому — 17-го. Остается списать и эту «странность» на тяжелое состояние, в котором диктовала свои воспоминания дочь Дорошевича. Но будем и напоследок благодарны за то, что сохранила ее память, в том числе о последних днях и похоронах отца: «Дом литераторов проявил мало интереса к нему, да и Ольга Николаевна не особенно старалась этот интерес возбудить. Работа ЦЕКУБУ зимой была очень трудна. Умирали многие крупные русские ученые. Ольденбург как-то отстал от этого дела, видя, как трудно бороться с жучками, насевшими на него. Ольга Николаевна поскупилась, а, может быть, и вправду не сумела найти лошадь или машину для похорон. К этому времени все вещи, оставшиеся в квартире, были заботливо снабжены ярлыками: „Находится под охраной отдела памятников искусства и старины“ — и этим надежно застрахованы от всякого рода реквизиции. Но в Петрограде набирался народ, и задние комнаты огромной нашей квартиры были заселены рабфаковцами: они-то и помогли отвезти гроб на санках в тусклый февральский день через весь город, на литературные мостки Волкова кладбища».
За гробом шли четыре человека — Ольга Миткевич, Наташа, репортер, будущий автор популярных книг о Пушкине Арнольд Гессен, и подвыпивший по такому случаю актер Павел Орленев. Газета «Жизнь искусства» писала: «Литературный мир Петрограда, как говорится, блистал своим отсутствием. Никто не явился отдать последний долг почившему, хотя при жизни, пользуясь широким, даже шумным успехом, В. М. Дорошевич имел широкий круг знакомых, друзей и почитателей таланта»[1395].