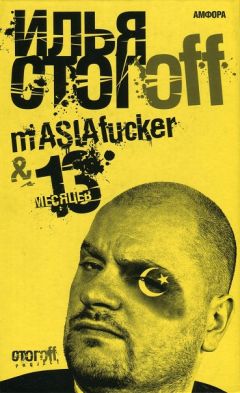Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова
Когда-то, на пятьдесят четвертом году своем, лечась в Мариенбаде, он срамил в письме С. Н. Шубинского русским халатом, противопоставляя последнему короткие австрийские куртки, в которых люди равных с русскими лет еще легко бегают по горам.
В зиму 1889–1890 годов, исходя из того, что “жаба” делала досадительным крахмальное белье и вообще все, что “тянет и давит”, Лесков переходит на невесомые сатиновые рубашки с пышными фуляровыми шарфиками вместо галстуков, на легкотканные жилеты и короткие пиджаки. Получалось нечто просторное, мягкое, удобное и даже нарядное. Убор нравился и отвечал всем требованиям, добросовестно выполняя их несколько лет.
Но вот, в середине 1892 года, заслуженный пиджачок заменяется надевающеюся через голову, кругом топорщившеюся блузой из пухлой лиловатой бумазеи в беленькую полоску. Коротковатая, схваченная на животе пояском, она выбивалась из-под последнего, близко повторяя “курдючки” или “перящиеся хвосты”, шутливо отмечавшиеся Лесковым в разговорах, письмах и в печати у толстовцев. Внушительная фигура строгого старика приобретала в некоторых ее поворотах нечто ребячливое.
Для выходов, говоря тогдашним военным языком, “строится” никакими лекалами не предусмотренное сооружение из черной тонкой, но плотной материи, до щиколоток, застегивающееся массой висячих петелек на левую сторону, на какие-то черные бусы. Шаг связан запашными полами. Ворот закрыт “под-душу”. Все такое, какое не носилось всю жизнь, вяжущее движения и кругом тянущее.
Наименовывается оно — азям. Заказывается у братьев Марковых в Александровской линии Апраксина двора, по Садовой улице. Особой специальностью “дома”, между прочим, являлась пошивка “русского платья”, в том числе кучерского и даже “древлего благочестия”. Сшить, однако, и здесь не сумели, так как заказ никаким известным образцам не отвечал. Вышло что-то очень уступающее пиджачку в свободе и далеко не превосходящее его в удобстве.
Брюки оставались прежние, английского материала, навыпуск.
Головным убором служил не то немецкий, не то купецкий шелковый черный картуз “куполом”, какие носили гостинодворские хозяева магазинов.
Не только о стиле, но и о каком-нибудь пошибе говорить не приходилось.
Ближние и знакомые старались не обнаружить неодобрения или хотя бы удивления. На улицах столицы и на дачном побережье встречные оказывали азяму самое бесцеремонное и длительное внимание.
Хозяин хвалил. Искренно? Неизвестно. Лесков вспоминал иногда народный анекдот о “хохле”, которые со слезами ест злую редьку и учит себя: “бачили очi що купували, так iжте ж!” Сам он нечетко ставил и разъяснял вопрос.
26 января 1893 года Л. И. Веселитской писалось: “Когда мне будет лучше, я надеюсь прийти к вам, но забыл просить у вас разрешения прийти в русском платье, т[ак] к[ак] я не могу надевать ни сюртука, ни фрака, и последний давно подарил знакомому лакею. Боль сердца у меня не переносит никакого плотного прикосновения к груди” [Пушкинский дом.].
В том же году, задумав посетить “умную и изящную, хорошо настроенную писательницу” С. И. Смирнову (Сазонову), Лесков письмом от 28 ноября предупреждает ее: “Кроме того, я уже 4 года не ношу платья “европейского” покроя, а хожу в “азяме”, которого терпеть не могу, но он оставляет мне свободу вздоха… Могу ли быть у вас в упомянутом “азяме” — единственном платье, которое могу носить?” [Пушкинский дом. ]
Возможно, что он этот азям в душе действительно “терпеть не мог”, но в то, что тот давал “свободу вздоха”, — никто не верил, как и в какие-либо достоинства и преимущества “азяма”, надуманного к тому же на три года позже прихода “жабы”, когда она уже значительно утратила первоначальную свою лютость.
На зимнюю и осеннюю “справы” реформа не распространялась: ни полушубка, ни охабня не шилось. И добрая енотовая шуба, и степенная бобровая шапка, и мягчайшего заграничного драпа “демисезонное”, полностью “европейское”, пальто не подвергались замене.
Нет! Не в шитве тут было дело. “Так и во всем остальном. Живу — как хочу”, — записано за Лесковым [Фаресов, с. 128.]. Это ближе к истоку мероприятия.
Вопреки догадкам некоторых мемуаристов, влияние Толстого в этом платьевом преобразовании исключается. Оно проведено только на шестом году личного знакомства, когда Лесков уже открыто высмеивал “водевиль с переодеванием”, разыгранный Бирюковым, Горбуновым-Посадовым, Чертковым и прочими. У него самого дело ограничилось азямом и блузой, далеко не повторившей “толстовку”. Немецкий картуз, зонтик, калоши — все неприкосновенно сохранялось.
7 января 1889 года Лесков предостерегает переводчика на немецкий язык его произведений К. А. Греве: “В Москве гостит у Льва Никол[аевича] Толстого в Долго-Хамовническом переул[ке] его и мой друг Павел Иванович Бирюков. Он морской офицер, опростившийся и ходящий по-мужицки. Я просил его видеться с вами и переговорить об одной моей повести. Я полагаю, что он к вам придет, а может быть, и не один, а с графом [Л. Н. Толстым. — А. Л.]. Это бывало. Предупреждаю вас, чтобы не вышло недоразумения с этими мужиками. Они, конечно, не обидятся, но вам, б[ыть] м[ожет], будет досадно” [“Щукинский сб.”, 1902, вып. 1, с. 89.].
Одновременно о том же пишется и самому Бирюкову с шутливой загвоздочкой: “Одно боюсь — перепугаете вы немку [жену Греве. — А. Л.] своим кожухом!.. Авось она не беременна!” [Архив Черткова, Москва. ]
Где тут быть подражательству! Если уж доискиваться корней метаморфозы, то не вернее ли всего обратиться к отеческим преданиям и памятям?
В письме к Суворину от 9 октября 1883 года [“Письма русских писателей к А. С. Суворину”, с. 58.] Лесков ревниво относил некоторые поступки Толстого к “чудачеству в народном духе”.
Много ли в литературе русской было фигур народнее самого Лескова! Да и отчего не почудачить вольному человеку, если к тому тянут с детства воспринятые примеры, и кровь, и натура?
Издревле у многих русских людей, со сменой образа жизни и настроений, рождалось желание так или иначе “почудачить”, изменить внешность, как бы в подкрепление духовного переустроения. Стихийно — нутряным натурам последнее удавалось, конечно, много труднее, чем смена платья.
И у Лескова “азям” и блуза не изменили свойств, дававших терпкие плоды.
Самообладающий, безупречно честный и общепризнанно удобный и предупредительный в делах, редактор “Исторического вестника” Сергей Николаевич Шубинский, по личному определению Лескова, “хороший друг и милый человек” [Письмо Лескова к С. Н. Шубинскому от 29 апреля 1887 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина. ], уже на четвертый год рабочих отношений, 30 января 1883 года, находит себя вынужденным защищаться: