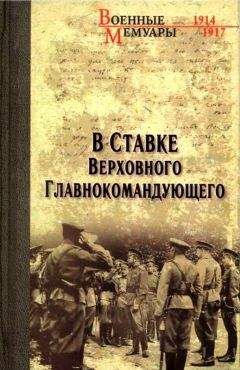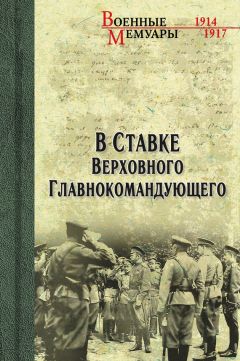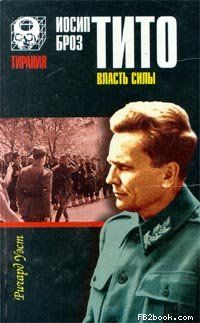Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова
Посвященный во все таинства получения толстовской повести и ее набора для мартовской книжки дружественного журнала, равно как и в вызревание “нового религиозного сочинения”, то есть катехизиса Толстого [1398], Лесков не мог не поделиться этой драгоценной осведомленностью с широкой общественностью.
Вероятно, он посылает Суворину помещенную в № 6794 “Нового времени” от 27 января 1895 года в “хронике” коротенькую заметку, а на другой день, 28 числа, в № 27 “Петербургской газеты” появляется уже совершенно бесспорная, бесподписная лесковская статейка: “О повести Толстого”.
В ней, между прочим, говорится:
“У графа Л. Н., говорят, теперь исполнены две очень замечательные работы, одна от другой совершенно независимые: одна — повесть, а другая — очень важное сочинение в религиозном духе. Это последнее сочинение, как уверяют люди, способные понимать дело, должно представить собою свод и завершение всего, написанного Толстым в этом, особенном роде. “Вытащено на свет из сундука”, как шутил Тургенев… Объем всех этих сочинений полностью нам даже неизвестен… Ясно только, что азарт этот [1399] велик и что дело доходит уже до чего-то легендарного. А еще более всего он непонятен: о каких исключительных правах может идти речь, когда известно всем, что Л. Н. Т. от права собственности на свои новые сочинения отказался!”
Радостно вспоминается здесь и чудесный “сундук”, как источник больших знаний.
Прочесть повесть в окончательной ее правке Толстым Лескову не пришлось…
В январе же Лесков ставит свою подпись под просьбой группы петербургских литераторов Николаю II о “принятии под сень законов” литературы, терпевшей своевластие Главного управления по делам печати, министров внутренних дел и различных административных органов и деятелей. По тем временам обращение к царю по такому поводу являлось гражданским актом не малого значения[1400].
Не уставал он в эти же дни по-прежнему “заступаться” за Толстого в беседах, как и в письмах хотя бы к литературно и малозначительным людям.
Жил-был в Вильне военный юрист А. В. Жиркевич, сотрудничавший в “Ниве” А. Ф. Маркса, благодарно приявший отсюда псевдоним “Нивин” и всемерно домогавшийся переписки с Толстым и Лесковым. Обижаясь, что первый ему не всегда отвечал, он налегал на Лескова. Последний нес этот крест до 31 января 1895 года, когда писал ему в явной надежде внушить бесплодность дальнейших письмовых его посягательств:
“Уважаемый Александр Владимирович!
Я никак не могу попасть в тон, чтобы написать вам хоть один такой ответ, который бы вас удовлетворял и успокаивал. Это меня ставит в затруднение, как быть. Книгу вашу я прочел, потому что вы мне ее прислали, а прислали вы ее, вероятно, с тою целью, чтобы я ее прочел. Здесь ничто не могло нарушить вашего спокойствия. Желание ваше в отношении рассказа я постараюсь исполнить. Ни о “гениальности”, ни о “воровстве” стихов я вам ничего не писал и очень удивляюсь, зачем вы мне это приписываете. Человеку довольно отвечать и за то, что он сделал. Названием стихотворения А. Толстого ошибся, но это нисколько не важно и дела не изменяет: все дело в цитованном стихе, который схож с вашим. О том, что Лев Николаевич знает эти стихи и писал о них, я ничего не знал. Л[ев] Ник[олаевич] говорит людям что нужно прямо в глаза, а заочно о них не пересуживает. В том, что он есть “лучший из людей”, я с вами совершенно согласен. “Мундир” ваш, конечно, не мог рассчитывать на его благорасположение, и я не знаю: о чем тут можно спорить? Симпатии Л[ьва] Н[иколаевича] не на стороне воюющих и не на стороне обвиняющих и судящих; но вести об этом особые споры с каждым человеком, который сказанным не убеждается, а хочет доходить до всего сам, — Л[ев] Н[иколаевич], понятно, не может. На это недостало бы его сил и времени, которые нельзя раздробить, а надо сберегать и пользовать им возможно большую аудиторию. Следовательно, всего вероятнее, он не “отвернулся” от вас с обидой или неудовольствием, а ему невозможно оторваться от дел и следить за эволюционизмом ваших борений. Он, конечно, знает, что вы знаете все, что надобно знать для того, чтобы прийти к надлежащему решению, и потому за вас опасаться нечего: вы придете туда, куда лежит ваш путь. “Где ваше сокровище, там будет и ваше сердце”. Между этим все остальное имеет характер спора, а “аще кто мнится спорлив быть, мы такого обычая не имеем” (1. Коринф, 11, 16). Всякому дан свет, и иди с ним, а спорить трудно, тяжело и, наверное, бесполезно. Желаю вам всего доброго.
Ник. Лесков” [1401].
4 февраля, в день “списателя канонов” Николы Студийского, в шестьдесят четвертую годовщину рождения Николая Лескова, поздним утром на мягкой оттоманке у него сидел, пришедший поздравить деда, 2 1/2-летний его внук.
Лесков был неузнаваем. Забывая все свои недуги, он ползал по ковру, умиленно поднимая и подавая младшему из Лесковых вещицы, которые последний святотатственно брал со святая святых — с писательского письменного стола! Случайные гости, не веря своим глазам, дивились благорастворенности, светившейся в обычно гневливых глазах хозяина. Сколько бы раз внук ни бросил только что поданную ему дедом безделушку, тот торопился сам разыскать ее на полу и снова вручить баловнику. Попытки невестки, опасавшейся утомить больного свекра, увести сына, вызывали горячий протест и трогательные просьбы старика побыть у него подольше. И вообще всегда при всех свиданиях с внуком в Лескове, вопреки всем опасениям, наперекор всему надуманному о “неизвестных величинах”, ярко говорило простое чувство крови, рода.
6 февраля отец вел со мною пространную беседу о мероприятиях к сбережению последних тысяч Ольги Васильевны, и на другой день, “пользуясь сравнительным теплом и влагой”, он съездил к надзирательнице из больницы св. Николая и договорился с нею об опекунстве над деньгами душевнобольной Ольги Васильевны. Этим успешно разрешались заботы в отношении безумной.
12-го числа, в “прощеное воскресенье”, когда положено было правоверным каяться друг перед другом во взаимно содеянных грехах и гнусностях, около полудня горничная доложила Лескову, что просит его принять некий Филиппов. Не представляя себе, кто такой пришел, Лесков говорит: “Просите” — и поднимается навстречу загадочному гостю. В открытых дверях, не решаясь переступить порог, недвижно стоит злейший его враг и ревностный гонитель, государственный контролер в министерском ранге, “Терций” Филиппов.
“Я, — взволнованно рассказывал мне отец, — тоже остановился посреди комнаты.
— Вы меня примете, Николай Семенович? — спросил Филиппов.