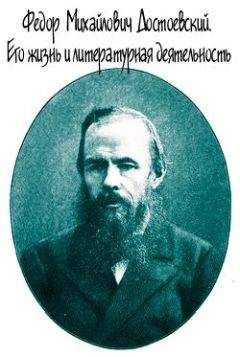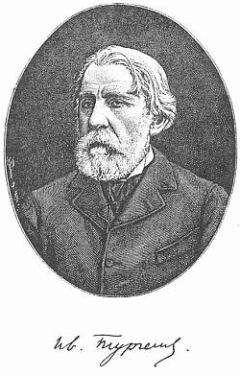Евгений Соловьев - Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
«В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова и исчез. В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные, определившиеся. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время кружка Станкевича. Его самого я не застал – он был в Германии, но именно тогда статьи Белинского стали обращать на себя внимание всех. Возвратившись, мы помирились. Бой был неравен с обеих сторон; почва, оружие и язык – все было разное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел нам черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет».
В Москву Герцен возвратился в 1840 году, после пяти лет отсутствия. Здесь был уже Огарев, вокруг которого группировались члены кружка Станкевича. Бакунин и Белинский стояли во главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках, и с юношеской нетерпимостью провозглашали: нет философа, кроме Гегеля, и мы – пророки его. Герцена приняли радушно, с почетным снисхождением, как человека пострадавшего, с готовностью произвести его в свои, но под тем непременным условием, чтобы он признал гегельянство за догмат и преклонился перед ним. Прежде чем признать и преклониться, он стал изучать, и страстное одушевление товарищей мало-помалу передалось и ему.
В наше время нет философа, нет системы, которые имели бы такое всеобщее значение, какое имели Гегель и гегельянство пятьдесят лет тому назад. Ни Дарвин, ни Маркс, ни Спенсер не могут идти в сравнение. Они влияют лишь на известные умы, на известные темпераменты. Гегель подчинял себе одинаково и мистика Киреевского, и положительного скептика Герцена, и нервного впечатлительного Белинского, и флегматика Огарева. В гегельянстве есть стихийная сила, какая – увидим ниже.
Толковали о Гегеле беспрестанно; нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», в «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят с бою отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее по себе бытии». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до выпадения листов в несколько дней.
Сам язык стал совершенно особенный, «птичий», как выразился астроном Перевощиков.
«Никто, – говорит Герцен, – не отрекся бы в те времена от подобной, например, фразы: „Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте“.
Язык портился, одновременно совершалась другая ошибка, более глубокая.
«Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля со студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все было совершенно искренне. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом, и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном проявлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к „гемюту“[16] или к «трагическому в сердце»…
То же в искусстве. Знание Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным; зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, полагаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество Божие» – «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, по дороге и политическое.
Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер – поэт субъективный, но его субъективность объективна, и наоборот, все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться».
Не хотели знать и понимать того, что «Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гёльдерлина, который спас под полой свою „Феноменологию“, когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи „о палаче и о смертной казни“…»
Особенно вкривь и вкось толковалась фраза «Все действительное разумно», с помощью которой немецкие консерваторы стремились примирить философию с политическим бытом Германии, оправдать реакцию и взнуздать молодежь, которая все еще нет-нет да и «бродила». «Все действительное разумно» означало лишь то, что все имеет достаточную причину для существования, что в жизни нет ничего случайного. Гегель имел полное право выразиться так, как он выразился, потому что единственная признаваемая им причина бытия есть разум. Разумно в этом случае означает – «исходит от разума». Не греша против духа гегелевской логики, можно перевернуть фразу и сказать: все существующее есть стадия развития разума, проявление его жизни. На каком же основании немецкие консерваторы толковали «разумно» как «умно» и «необходимо», а иногда и «вечно» – это их дело. Несомненно, что иной раз самому старику Гегелю бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность пресытившихся, а подчас и не совсем честных учеников своих.