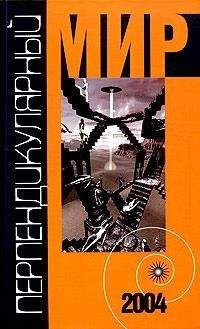Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век
И еще две цитаты из тогдашних писем Шкловского Горькому: «У меня нет никого. Я одинок. Я ничего не говорю никому. Я ушел в науку „об сюжете“, как в манию, чтобы не выплакать глаз. Не будите меня». И: «Если бы коммунисты не убивали, они были бы все же не приемлемы».
Кто в Петрограде до побега Шкловского мог догадаться о его самоощущении?
Н. Чуковский, знавший В. Б. с детства и очень внимательный к старшим, свидетельствовал: В Доме Искусств «его знали все и относились к нему не только с почтением, но и с некоторым страхом. У него была репутация отчаянной головы, смельчака и нахала, способного высмеять и унизить любого человека… Лев Лунц и Илья Груздев ходили за ним, как два оруженосца». В Доме Искусств у Шкловского были не только Серапионы. Снова воспоминания Н. Чуковского: «Шкловский перетащил в просторные помещения Дома Искусств заседания знаменитого ОПОЯЗА — цитадели формализма в литературоведении. Многие любопытствующие студисты посещали эти заседания, был на некоторых и я. Кроме Шкловского помню я на них Эйхенбаума, Поливанова, Романа Якобсона, Винокура. Они противопоставляли себя всем на свете и во всей прежней науке чтили, кажется, одного только Потебню. Но зато друг о друге отзывались как о величайших светилах науки: „О, этот Эйхенбаум!“, „О, этот Поливанов!“ „О, этот Роман Якобсон!“ Винокур к тому времени еще не успел, кажется, стать „О, этим Винокуром“, но зато крайне ценился своими товарищами как милейший шутник… Разумеется, светилом из светил во всем этом кружке был Виктор Борисович Шкловский. Он не знал ни одного языка, кроме русского, но зато был главный теоретик»… (Замечу, что, и не зная английского, можно было открыть русскому читателю Стерна — это сделал именно Шкловский.) Не любивший Шкловского Шварц признает в дневниках: «Литературу он действительно любит, больше любит, чем все, кого я знал его профессии. Старается понять, ищет законы — по любви. Любит страстно, органично. Помнит любой рассказ, когда бы его ни прочел… Поэтому он сильнее писатель, чем ученый».
В 1922–1923 годах в Берлине Шкловским были написаны две замечательные книги: «Сентиментальное путешествие» и «Zoo[18], или Письма не о любви».
«Сентиментальное путешествие» — мемуары, речь в них идет о жизни автора в войну и революцию; название двух частей («Революция и фронт» и «Письменный стол») говорят сами за себя. В отличие от мемуаров, написанных через сорок лет, здесь не было ничего о детстве и были сердечные слова о Серапионах, но главное — это повествование о войне и революции, повествование свободного художника.
У книги «Zoo» было еще третье название: «Новая Элоиза». Оно связано не с Руссо, а с Эльзой Триоле — Шкловский включил в книгу ее письма. В сестру Лили Брик Эльзу он был безответно влюблен. Завершив работу над «Zoo», Шкловский писал Эльзе: «Книжка, кажется, удалась, во всяком случае это лучшее, что я написал. Спасибо тебе за это, Эльза. Пишу без надрыва… У меня был прогрессивный паралич любви, и он разрушил мою нравственность. Но дело не безнадежно. Я умею работать, Эльза, умею писать… Твои письма настолько хороши, что у меня к ним чувство соперничества»[19]. Опубликовав ее письма, Виктор Борисович внушил Эльзе, что у нее есть литературный дар. Поверив этому и написав две книжки по-русски, Эльза Триоле (она носила фамилию первого мужа, француза, с которым уже разошлась) затем перешла на чужой для нее французский язык и во время Второй мировой войны стала известной французской писательницей, к тому же воспетой в стихах ее вторым мужем Луи Арагоном. А Виктору Шкловскому в Берлине не оставалось ничего другого, как всерьез думать о своем будущем. Впрочем, судьба его будущего решилась заключительным письмом в книге «Zoo». Это письмо имело неожиданный адрес, потому что оно называлось «Обращением во ВЦИК СССР», и столь же определенное содержание: «Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее. Неправильно, что я живу в Берлине. Революция переродила меня, без нее мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться… Я хочу в Россию. Все, что было — прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь»[20].
Вениамин Каверин в книге «Эпилог» именно словами «Я подымаю руку и сдаюсь» назвал главу, посвященную Шкловскому, придав этим словам глубоко символический и как бы пророческий смысл. Из 1922 года усмотрел Каверин «сдачу» Шкловского, приобретшую отчетливые внешне черты лишь в 1930-е годы.
Дружба Шкловского с Горьким знала свои приливы и отливы; в Берлине они в итоге поссорились, и в 1925 году Горький писал Федину резко: «Шкловский — увы! „Не оправдывает надежд“. Парень без стержня, без позвоночника и все более обнаруживает печальное пристрастие к словесному авантюризму. Литература для него — экран, на котором он видит только Виктора Шкловского и любуется нигилизмом этого фокусника. Жаль». С позвоночником тогда были уже проблемы и у самого Горького, но это совсем другой сюжет…
Шкловский был литератором, сложившимся уже к моменту встречи с Серапионами, — а они еще только учились. Пока ему с ними возиться было интересно, он возился, потом, по возвращении в Сов. Россию, закрутила и жизнь, и литература — из Берлина он вернулся не к Серапионам в Питер, а, вспомнив футуристов, в Москву, в ЛЕФ — группу боевую, с заявленной идеологией, литметодой, лидером и т. д. — и какое-то время сверкал там. Он стал вместе с Маяковским одним из лидеров ЛЕФа, увлекся кино (как и Тынянов). В 1926 году вышла его книга «Третья фабрика». Она открывалась объяснением названия: «Во-первых, я служу на 3-й фабрике Госкино. Во-вторых, названье объяснить не трудно. Первой фабрикой для меня была семья и школа. Вторая ОПОЯЗ. И третья — обрабатывает меня сейчас. Разве мы не знаем, как надо обрабатывать человека? Может быть, это правильно — заставлять его стоять перед кассой. Может быть, это правильно, чтобы он работал не по специальности. Это я говорю своим, а не слоновым голосом. Время не может ошибаться, время не может быть предо мною виноватым». Публичное признание того, что время всегда право, начинало одну из главных тем книги — о свободе искусства, вернее, о ее необязательности. «Есть два пути сейчас, — развивал свои соображения Шкловский. — Уйти, окопаться, заработать деньги не литературой и дома писать для себя. Есть путь — пойти описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и правильного мировоззрения. Третьего пути нет». Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы, сказав «третьего пути нет», не добавил: «Вот по нему и надо идти. Художник не должен идти по трамвайным рельсам». И опять же Шкловский не был бы Шкловским, вернувшимся в СССР, если бы не развил эту мысль: «Путь третий — работать в газетах, в журналах, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература». Ничего этот путь дать не мог. Шкловскому пришлось смириться с засилием пустых книг и — более того — временами публично петь им дифирамбы.