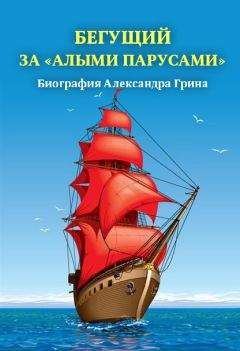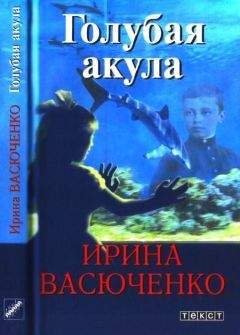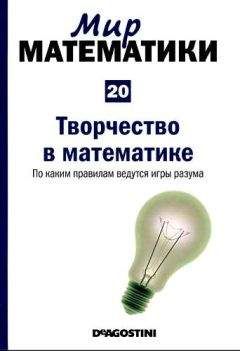Ирина Васюченко - Жизнь и творчество Александра Грина
Кстати, о дуэли. Здесь не место детально разбирать гриновскую манеру интерпретировать традиционные коллизии приключенческой прозы. Но один пример все-таки приведу. Смертельный поединок двух героев — из числа таких коллизий. Грин пользуется ею, и не раз. Теперь смотрите, что вытворяет с нею его воображение.
Начнем о противников. В «Дуэли» это молодая светская дама и старый ученый. В «Гениальном игроке» двое картежников, один из которых изобрел способ всегда выигрывать. В рассказе «Белый шар» это кредитор и должник, в «Дороге никуда» — аристократ и трактирщик.
Никто не приглашает секундантов, не стреляет, отсчитав десять шагов от барьера, не скрещивает шпаг. Все это многократно описано другими, Грину же в дуэли интересен не спортивный момент, а исключительность психологической ситуации, ее предельная напряженность. И еще воля Рока, ибо для этого незримого, но влиятельного персонажа гриновской прозы дуэль — подходящий повод вмешаться.
Аристократ не стреляется с трактирщиком, найдя бесчестный способ засадить противника за решетку: так повернута тема дуэли в «Дороге никуда». В «Белом шаре» все решает крепость нервов и шаровая молния, случайно залетевшая в окно. Персонажи «Гениального игрока» доверяют свою судьбу картам, причем проигрывает и гибнет тот, кто не ведал поражений. В «Дуэли»…
«— Вот, — сказал Феринг, — наше оружие. Я бросаю монету. Если упадет она орлом вверх — вы выпьете красный флакон; решка — зеленый. В зеленом флаконе сильнейший яд, убивающий мгновенно. В красном заключен эликсир бессмертия. Кому-нибудь из нас предстоит вечное небытие или вечная жизнь. Этот эликсир изобрел я. Решайтесь!»
Евгения Дикс, которая готова была рискнуть головой, чтобы отомстить виновнику гибели мужа, отступает. Бессмертие устрашило ее. Дуэль не состоялась. Зато старая авантюрная коллизия, по прихоти художника столкнувшись с древней, как проклятие Агасфера, мыслью об ужасе бессмертия, создает эффект неожиданности, волнуя и запоминаясь.
О художнической изобретательности Грина собратья по перу рассказывали всевозможные истории. Вот одна из них. Группа питерских литераторов вздумала устроить состязание: кто найдет не затасканное поколениями стихотворцев определение розы. Мастера слова изощрялись, кто как мог. Грин молчал. Потом проронил: «Воскрешающая роза». И все поняли, что поэтический турнир завершен. Еще бы: воскрешающая…
Вы верите, читатель, что красота спасет мир? Я сомневаюсь. Вот если мир не спасет красоту, ему уж точно крышка. Но воскресить душу человека красота может. Это, про розу, было не просто здорово сказано. Там еще содержалась правдивая информация.
МЕТКИЙ СТРЕЛОК, или ЗАЧЕМ ДРУДУ КУРИТЬ ТАБАК
О чем же хочет слушать сын своей страны? Слушай, я расскажу тебе о перестройке здания морского училища.
— Не хочу, — сказал Ингер.
— 0 расширений избирательных прав низших сословий…
— Тоже.
— О законе против цыган…
— Еще бы!
— О налоге на роскошь..
Ингер обиженно замолчал.
— Ну, — посмеиваясь, продолжал Бангок, — что-нибудь о народном быте?
«Дьявол Оранжевых вод»Грин не признавал искусства, занятого разрешением социальных проблем. Неприятие было вызывающим. Даже настолько, что ради его демонстрации он вводил в свои произведения эпизоды, в этом смысле тенденциозные, то есть с точки зрения чистого искусства как раз необязательные. Зачем, например, понадобилось в контексте «Блистающего мира», чтобы герой романа был курильщиком?
Ради одного единственного абзаца. Вот он: «Друд взял книгу. — „Искусство, как форма общественного движения“, — громко прочел он и выдрал из сочинения пук страниц, приговаривая: — Книги этого рода хороши для всего, кроме своей прямой цели»
Подобная запальчивость выглядела бы наивной, если бы не надвигались времена, когда искусство подверглось чудовищной идеологической агрессии. Грин раньше многих оценил размеры катастрофы. У этого поборника искусства для искусства было поразительное соцнальное чутье. Читая его, натыкаешься на прозрения порой такого масштаба, что их так и тянет торжественно назвать пророчествами. Но они всегда возникают между делом: Грин берется за перо совсем не ради них.
Об этом можно бы написать отдельную книжку (представляю, с каким сарказмом отнесся бы к ней Грин), но ограничусь кратким перечислением острейших мировых и отечественных проблем двадцатого столетия, понятых писателем так глубоко и тонко, как и сегодня мало кто понимает их. Попробуйте, например, прочесть такие рассказы как «Лунный свет» и «Серый автомобиль» с точки зрения вопросов экологии, психологии, культуры в эпоху НТР. Писатель не произносит этих набивших оскомину засушенных слов (к тому же аббревиатура НТР вошла в обиход позже), он говорит на языке поэзии и пускает в дело увлекательные беллетристические приемы. Но существо проблем благодаря этому выступает только отчетливей.
А вспомните, как верно воспроизводится состояние эмоциональной и интеллектуальной перегрузки современного сознания в «Возвращенном аде», как монолог доктора Брантома из «Блистающего мира» похож на рассуждения нынешних парапсихологов, какие знакомые читательские ассоциации возникают, когда Бангок грозится поведать слушателю «о психологии рыжей и пегой лошади, историю уздечки, власть чернозема и деспотизм суглинка, о предродовых болях, ткацком станке и вареном картофеле». Хоть и в карикатурном виде, здесь можно узнать одно из мощных направлений отечественной прозы второй половины двадцатого столетия, а Грин-то писал этот рассказ ве позже 1913 года.
О том, какие выразительные и зловещие человеческие типы подчас являлись из-под его пера, уже шла речь. Но кошмарнее всего, что это были еще и типы исторически перспективные. Тот же Блюм в «Трагедии плоскогорья Суан», когда писался рассказ, еще «был ничем», но лет двадцать спустя в российской действительности ему предстояло «стать всем». Как же! Ведь бредовая мысль об уничтожении тех, кто имеет в жизни «зацепку», иногие годы претворялась в действие на уровне государственной политики. Такие люди оказались неудобны победившему режиму. Даже самые смирные из них или, что тоже бывало, преданные новой власти становились неуправляемыми, когда стальная рука партии хватала и душила то, что было им дорого.
Крестьянин не хотел отдавать землю. Ученый — пренебречь истиной в угоду идеологии. Художник — творить «под мудрым руководством». Сын — отречься от опальных родителей… Все это были обреченные. Им не было числа. Карьера капитана (майора, полковника, генерала) Блюма была обеспечена. Поротый в детстве Чугунов из «Жизнеописаний великих людей» тоже дождался своего часа. Товарищу Чугунову наверняка поручили управлять делами культуры. В его отношении к ней была та специфическая смесь невежества, наглости и раздражения, что весьма ценилась как «здоровое пролетарское чутье».