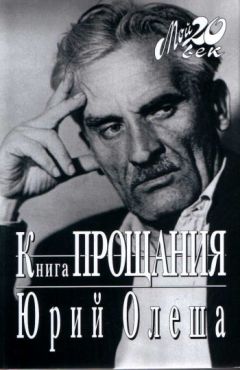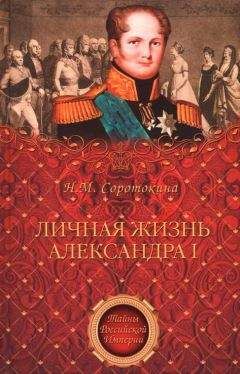Юрий Олеша - Книга прощания
Я не могу восстановить в памяти, когда именно я болел корью — в гимназические годы или раньше. Тогда берегли во время этой болезни глаза заболевшего, закрывали днем ставни. Я лежал в нашей большой столовой, в квартире на Греческой улице, — неуютной, невыгодно обширной, выходящей окнами в стену комнаты. Лежал на кровати, поставленной под закрытой двустворчатой дверью. Лечит меня доктор Гартенштейн, высокий, в сером, с хорошей, седоватой, но молодой бородой. Я болел нетяжело.
Мне вдруг начинает казаться, что я заснул и сплю и вижу сон, — и до сих пор я думаю, что с тех пор я не проснулся и эти многие годы, которые прошли с тех пор, — все это мой сон.
Чуть подлиннее. Чуть подлиннее.
Кроме обыкновенной формы еще надевались так называемые мундиры. Синие, узкие, в девять пуговиц мундирчики, у которых был стоячий воротник с серебряными галунами. Мундиры были необязательны, их имели только более или менее богатые мальчики. У меня такого мундира не было.
Безусловно, эти сумерки относились уже к весне… Хоть и ранняя, но уже весна, уже плыли в небе гигантские льдины облаков, уже светились там голубые проруби.
Я шел по Ришельевской улице, потом свернул на Успенскую, потом спустился по Успенской. Я — маленькая фигурка, совсем маленькая: гимназист, по всей вероятности, первого класса. Я иду к Саулу Гершковичу. По фамилии можно подумать, что это сын бедных родителей. Нет, это сын буржуа.
Вот передо мной анфилада его квартиры, белые двери, белые широкие окна с тем же ледоходом облаков. Сумерки, но ламп еще не зажигают, и это чудесный час — особенно в богатой квартире, где кресла в чехлах, где конь рояля — да, да, черный блестящий конь! — где золотой блеск на обоях.
Все, конечно, встречают меня ламентациями по поводу того, что я бледный.
Вероятно, я был в те времена очень жалким на вид — болезненный, бледный, маленький. Но что-то привлекало ко мне людей. Я ведь еще был и бедный. И все же приглядывались ко мне и звали в богатые дома.
Орловы[54] жили хоть и в богатом, но все же полуподвале. Во всяком случае, к любому из их окон можно было подойти непосредственно по камням двора и, остановившись, отразиться, если оно было закрыто, во весь рост. Летом, стоя перед открытым окном, я видел внутренность комнаты несколько сверху, а для находившегося там, за окном, был довольно внушительным силуэтом человека, которого видят снизу.
Они были действительно богатые люди и почему жили в полуподвале — мне непонятно. Впрочем, как я уже сказал, полуподвал этот не был жилищем для бедняков. Наоборот, это была многокомнатная квартира, светлая, выходившая на две стороны — во двор и на улицу — и никак не дававшая жившим в ней почувствовать, что она полуподвал.
Жили они в этой, все же не совсем полноценной квартире, по всей вероятности, потому, что пожелали по каким-то причинам жить именно в этом доме и пока что, в ожидании лучшей квартиры, согласились на полуподвал.
Совершенно верно, они ведь, когда я вспоминаю о них, живут и в другой квартире — на втором этаже, с длинным узким балконом, с рядом светлых, во весь фасад, окон, которые мне ничего не стоит увидеть — только закрыть глаза!
Однако пока что Орловы — это полуподвал, это окна вровень двору, это богатая жизнь, которую все же я могу рассматривать несколько сверху.
Два маленьких, чуть ли не в стиле барокко окна выходили во двор, два других — на улицу. Комната, маленькая зальца, была как фонарь — сквозная, вся в стекле. Можно было увидеть в весенние сумерки тонкий серп месяца, можно было увидеть и ущербную луну… Те два выходившие во двор окошка, если подойти к ним поближе, оказывались выходящими на лестницу — она спускалась под ними, старая деревянная лестница.
Эта семья жила в квартире из двенадцати комнат. На кухне дежурил городовой, не то в качестве охраны, не то связного. Папа — правитель канцелярии одесского градоначальника, для не столичного масштаба чиновник весьма высокопоставленный. Я не могу вспомнить, с кем я дружил в этой семье: мальчиков моих лет там не было… С девочками? Их было две: Леля и Валя. Как бы там ни было, я бывал в этом доме часто, по всей вероятности, просто в качестве сына человека, к дружбе с которым снисходил сановный глава дома.
Главу звали Владимир Васильевич Орлов. Это был сильно потрепанный мужчина, с пухлым, бледным, отечным лицом, на котором под самым носом топорщились, может быть даже и крашеные, усы. Было на лице и пенсне — и все вместе приводило к сходству с Ласкером. Он ходил, загибая носки внутрь, этот человек, — и, если можно так выразиться, походка у него была какая-то нечистоплотная, как будто он почесывался на ходу, как будто постоянно вдвигал обратно в рукава вылезавшие оттуда манжеты… Пожалуй, именно таких господ видел перед собой Чехов — наскучивших жить бар, еще думающих, что они любят покушать, еще думающих, что они чудаки, а на самом деле…
А на самом деле, что за характеристика! Какое мне дело, в конце концов, до нравственного и исторического облика человека, который мне нравился тогда, в детстве, и которому нравился я, который кидал мне дружественно со своего места к моему через весь стол шоколадные конфеты, который первым пришел в наш дом, когда умерла моя сестра. Пришел в пальто, кривобокий от своей забирающей внутрь походки, немного поперек себя шире, с усами, поднятыми от огорчения под самый нос, с покрасневшим и взмокшим пенсне — пришел и стал в дверях комнаты, где лежала только что умершая девушка, — и стал так сериозно и так молчаливо, что так и стоит в моей памяти и по сей день.
Квартира о двенадцати комнатах, городовой на кухне… О, как это действовало на мысль, как сложно действовало, как хотелось все же бывать в этой квартире!
Мы его смертельно боялись. Он иногда появлялся на мгновение в нескольких окнах — в одном, в другом, в третьем… Эго он шел по коридору своей квартиры, пока мы толпились во дворе.
Я помню какие-то балясины, тонущие в траве… Может быть, это были перила террасы? И там, говорили, живет старая дама, у которой много кошек. Ни старой дамы, ни кошек я не видел. Мы туда не подходили — близко к дому.
Особенно значительным он становился в сумерки, когда бывало наиболее страшно, что вдруг появятся кошки и старая дама. Одно из окон на повороте цоколя серо, как после дождя, поблескивало над садом…
Мы возвратились втроем, как и ушли, — я, бабушка, сестра; возвратились из парка, куда ушли гулять, как и каждый день; ничего не произошло неприятного… И вместе с тем я стою посреди комнаты, в которой только что очутился, растерянный, с сердцем, наполненным неизвестным мне до тех пор чувством.