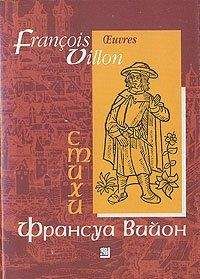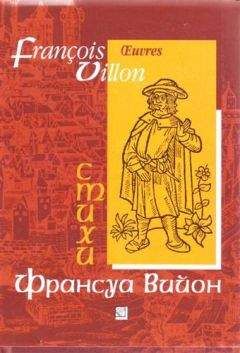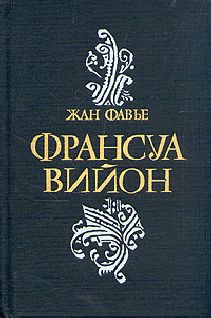Аркадий Малер - Константин Великий
К этому нужно добавить, что все гностические системы для объяснения логических и моральных противоречий своего учения все время усложняли свою картину мира, вводя новые уровни и новых богов, создавая фактически новую мифологию, включающую в себя элементы самых разных религий.
Если прямой противоположностью эпикуреизма был стоицизм, то прямой противоположностью гностицизма был неоплатонизм, так что даже главный неоплатоник Плотин написал против гностиков целый трактат, с некоторыми положениями которого вполне мог бы согласиться любой христианский богослов. У неоплатонизма и христианства была одна общая деталь: оба учения признавали зло онтологически несуществующим, поскольку бытие и благо изначально тождественны, в то время как гностики само бытие наделяли качеством зла. Однако поскольку бытие неоплатоников от начала и до конца является проявлением божественного сверхбытия Единого, то объяснить феномен зла они практически не могли: если зло онтологически существует, то Единое не благо, а «обманывает» нас, подобно злому демиургу, но если Единое благо, то как тогда объяснить феномены зла в мире, где все является его продолжением? В христианстве этот вопрос решатся очень просто: Бог всемогущ и всеблаг, и сотворенный им мир благ, что отмечает сам Господь в процессе создания этого мира: — «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хороги» (Быт. 1: 3–4), но поскольку созданные Богом личности, то есть ангелы и люди, обладали свободой воли, то они могли отвернуться от Божественного бытия-блага и выбрать небытие-зло, что и произошло в падении главного ангела и в грехопадении Адама и Евы. Неоплатонизм отрицал существование личности и свободы воли и поэтому не мог объяснить возникновение зла.
В противоположность неоплатонизму гностицизм объяснял существование зла как порождение злого демиурга. Тем самым оба учения, при всей противоположности между ними, отрицали человеческий фактор в возникновении зла и снимали с человека ответственность за зло. При этом нельзя сказать, что христианство и неоплатонизм до конца солидарны друг с другом в своем неприятии гностицизма, потому что в одном вопросе христиане и гностики находили большее понимание друг с другом, чем с неоплатониками, а именно — в вопросе о необходимости участвовать в динамике Божественного бытия, а не пассивно созерцать его. Только если гностики понимали это участие как совершение чисто внешних магических действий, то для христиан это участие предполагало личностное совершенство, нравственное и интеллектуальное, которое не может быть достигнуто формально-магическими процедурами. Точно так же христианство было солидарно с эпикуреизмом в том, что в мире есть свобода и нет тотальной предопределенности, о которой учили стоики, но вместе с этим христианство было солидарно со стоицизмом в том, что люди должны с терпением переживать свои страдания и не ставить целью своей жизни сплошное наслаждения, о которых учили эпикурейцы.
Таким образом, с каждым своим противником за души и умы людей христианство всегда имело нечто общее, что всегда учитывалось в миссионерской полемике с представителями каждой религии. Но если и гностики, и стоики, и эпикурейцы ничего полезного не могли привнести в опыт Церкви, то неоплатоники обладали одним очень важным «оружием», а именно — хорошо разработанным философски аппаратом, без использования которого христианство в принципе не могло донести свои позиции в пространстве греко-римской интеллектуальной культуры.
11. Александрийский прорыв
В сравнении со всеми другими направлениями поздней античной мысли неоплатонизм был наиболее отвлеченным и рафинированным, и можно прямо сказать, что история метафизики поздней Античности — это по преимуществу история неоплатонизма. Однако если мы внимательнее посмотрим на развитие неоплатонических и других идей языческой философии того времени, то мы увидим в них примечательную инверсию — если с самого начала неоплатонизм выступает как сугубо спекулятивная метафизическая философия, которой нет дела до презренного материального мира с его религиями, государствами и народами, то под конец он выступает как конкретное религиозное учение со всеми атрибутами настоящего культа, призванное спасти греко-римскую языческую культуру от побеждающего христианства.
Объясняется эта инверсия очень просто — реакцией на само христианство. Вначале языческие мыслители относились к христианству свысока, полагая его весьма странным культом какого-то еврейского пророка, проповедовавшего совершенно максималистскую и нежизнеспособную этику, оправдывающую страдания при жизни и обещающую телесное воскресение в своем Царстве. Как высоколобые и высокомерные римские интеллектуалы, нагруженные веками античной философии, риторики и поэзии, парящие в поднебесье абсолютов и эйдосов, могли согласиться с тем, что какой-то еврейский человек, убитый самой позорной смертью в далекой захолустной Иудее по требованию своих же единоплеменников, может стать для них хоть каким-то авторитетом, а не то что «альфой и омегой» их бытия?
Поэтому первичная реакция на христианство со стороны философских кругов Римской империи была связана с критикой самой фигуры Христа как обычного человека, не мудреца и не политика, о котором слишком много возомнили его приверженцы и который, «конечно», не стоит серьезного внимания со стороны тех, кто читает Платона и Аристотеля.
Что касается метафизики христианства, то она была практически неизвестна и абсолютно непонятна, а что касается ее этики, то она противоречит всем основным ценностям античного человека, с точки зрения интеллектуальной элиты первых веков. Полноценный гражданин Римской империи должен был быть добротным семьянином, продолжателем своего рода, выносливым воином и образцом для будущих поколений таких же семьянинов и воинов, поэтому его основные ценности — здоровье, сила и красота, а также богатство, успех и престиж. Для христианства все эти ценности представлялись преходящими и вторичными, если о них вообще можно было говорить серьезно как о ценностях, в то время как люди больные, слабые, уродливые, нищие, безуспешные и маргинальные вызывали не только сочувствие, но даже благоговение, если они шли за Христом на смерть и распространяли христианство по всему миру. Но при этом, несмотря на «очевидную» для многих античных интеллектуалов «несостоятельность» христианства, оно все время только распространялось, о нем все больше говорили, жены и дети богатых и властных сановников приходили в Церковь, а самое главное — появились такие философы, которые почему-то отвергали светил греческой мысли и признавали этого еврейского пророка, распятого во времена Тиберия, самим Богом.