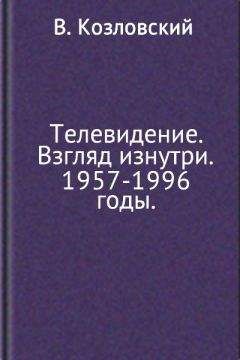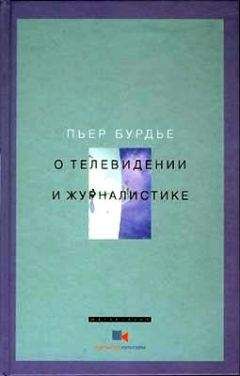Леон Островер - Петр Алексеев
Михаил Федорович Грачевский — этот ученый юноша с беспомощным взглядом близорукого человека — скорбно посмотрел тогда на Алексеева:
— Я прощаю тебе эти оскорбления во имя того дела, которому отдаю свою жизнь.
Петра Алексеевича поразили эти слова — тесно стало в груди, из глаз брызнули слезы. Он хотел извиниться, попросить прощения, но горло словно канатом перехватило. Он подбежал к Грачевскому, обнял его…
И с тех пор, встречаясь с Михаилом Федоровичем, Алексеев мягко пожимает его руку, лишний раз подчеркивая, что все еще считает себя виноватым перед ним.
С Иваном Жуковым были у Алексеева более простые отношения. Жуков преподавал грамоту литовцам. Это был серьезный, но какой-то скучный, скупой на слова интеллигент. Он делал свое дело буднично, холодно: то ли сам не придавал большого значения своим занятиям с рабочими, то ли убедил себя, что о серьезных вещах надо говорить с холодной сдержанностью.
И оба эти человека — пылкий Грачевский и суховатый Жуков — одинаково обрадовались Петру Алексееву.
— А я, дурень, — взволнованно сказал Алексеев, — вместо того чтобы сюда прийти, по городу рыскал. Где я не был! И хоть бы единого знакомого встретил!
— Кого ты искал? — спросил Жуков.
— Родную душу!
— Родные души теперь под замком сидят или по тайникам прячутся, — скорбно сказал Грачевский.
— Разгром, — уточнил Жуков. — Полный разгром!
После длительного молчания Михаил Федорович Грачевский спросил:
— Как у тебя с работой?
— Еще не знаю…
— К Торнтону тебе нельзя.
Не это интересовало Петра Алексеевича: он сам понимал, что обратно к Торнтону нельзя, что и там может оказаться подлец — выдаст. Он обрадовался Грачевскому и Жукову не потому, что хотел с ними посоветоваться насчет работы, — работу он себе найдет. Его волновало другое: как дальше быть с «делом», неужели все погибло? Его волновало еще и свое, личное: нельзя ли увидеть Прасковью или хотя бы дать ей знать, что он тут, рядом?
— Это ты прав, Михаил Федорович, к Торнтону мне нельзя. Но не обо мне речь. Знаешь, как в деревне? Погорели озимые, мужик не плачет, а перепахивает полюшко и яровое сеет. Как мы будем? Плакать по горелому или примемся перепахивать?
— Конечно, перепахивать! — решительно сказал Грачевский.
— А ты, Жуков, как думаешь?
— Обождать надо.
— Чего?
— Чтобы улеглось немного. Еще дымит на пожарище. Надо дать жару остыть. Я понимаю: не вес арестованы. Но народ разбежался. Вот придут в себя, выйдут из тайников, тогда…
— Нет, Жуков, ты не прав. Нас больше, чем тебе кажется. Примемся за работу, и народ появится. Вот вчера говорил мне один ткач: «Жить тошно». И не потому, что голодно живет, а потому, что просвете! не видит. Покажи ты этому рабочему просвет, и он в огонь пойдет. А таких рабочих, что ищут выхода из нужды, очень много. Их и искать не придется! Они сами к нам придут!
Алексеев говорил горячо, страстно.
Грачевский вдруг улыбнулся — наивно, стесни-тельно. Он прижался плечом к Алексееву:
— Не слушай Ивана. Это он нарочно страхи выдумал, хочет тебя проверить.
— Меня? Проверить?! — вспылил Алексеев.
— Успокойся, бешеный, — мягко сказал Михаил Фёдорович. — Садись. Я неудачно выразился. Не проверить, а узнать, не испугался ли ты арестов. Ты долго отсутствовал, обстановки не знаешь. А обстановка самая безрадостная. У нас тут полнейший разгром. Пустота образовалась. Мы с Иваном уже пятый раз сходимся, все ждем, авось кто-нибудь подойдет. И никто не приходит. Вот ты первый явился. Что у тебя на душе, не знаем. Потому-то так глупо и начался наш разговор. — Грачевский поднялся, зашагал по комнате. — Ты прав, Петр, надо немедленно приняться за работу. Нас мало, верно, но народ появится. С чего мы должны начать? По-моему, со здешней артели.
Было уже темно, когда Петр Алексеевич с Грачевским вышли на улицу. Они шли молча: одна улица, другая. Вдруг Грачевский взял Петра Алексеевича под руку:
— Ты ни о чем не хотел меня спросить?
Алексеева обрадовала чуткость товарища: ведь именно он, Михаил Федорович, один из тех, которые знали об отношениях Алексеева с Прасковьей Семеновной.
— Хотел. Скажи мне, Михаил Федорович…
— Помолчи. Я тебе все скажу. Ей ничего не угрожает. У нее ничего — это я хорошо знаю, — у нее ничего не было. Сидит она в Литейной части. Помнишь Васька, мальчонку, который жил в коммуне?
— Помню.
— Я его разыскал. Два раза в неделю носит он ей передачи, будто своей тетке.
— Я буду носить!
— Не надо этого делать. Ее-то ты не увидишь, а шпик за тобой увяжется. Согласен?
— Согласен, — покорно ответил Алексеев.
— Василий Семенович в Петербурге. Уляжется немного, мы с тобой к нему сходим. Он, кстати, только вчера спрашивал, не вернулся ли ты. И вот еще: будь осторожен, избегай тех рабочих, что бывали и коммуне. Среди них есть подлец, а кто — пока не знаем. — Он остановился, протянул руку. — Думаю, что больше вопросов у тебя нет.
— Спасибо тебе, Михаил Федорович!
— Будь осторожен, Петр. Кстати, как у тебя с квартирой?
— Буду жить у брата.
— Там надежно?
— Очень.
Еще раз пожали друг другу руки, разошлись.
Бывает, в ясный день наплывает на небо туча, закрывает солнце и в комнате вдруг становится неуютно, сумрачно.
И на жизнь Петра Алексеевича наплыла туча: стало неуютно, сумрачно. Он места себе не находил. Бывал на Монетной, словно все еще надеялся, что в окне покажется лицо Прасковьи, прогуливался перед воротами Литейной части — а вдруг освободят Прасковью?
Агитационной работы становилось все больше и больше. Народ начал приходить в себя после полицейского разгрома, и многие уже искали связи с революционным подпольем.
Из пропагандистов литовской артели всего два человека тесно общались с рабочей массой: ткач Петр Алексеев и кузнец Василий Грязнов. Чтобы расширить круг своей деятельности, Алексеев и Грязнов часто меняли место работы. Поступят на фабрику, сблизятся с рабочими, отберут лучших, организуют кружок, наладят его работу и переходят на другое предприятие.
Петру Алексеевичу стал помогать брат Никифор. Он сразу втянулся в пропагандистскую работу. Сначала он только книжки разносил, выполнял поручения старшего брата, потом стал ходить по трактирам, присматривался к знакомым и заводил разговор о жизни, об извечной рабочей нужде. Никифор находил простые, убедительные слова, — он говорил о том, что знает, чем мучится, о чем мечтает. И тех из своих слушателей, которые искали выхода из тяжелого положения, Никифор знакомил с братом.
Странное дело: чем больше Петр Алексеевич работал, тем светлее становилось у него на душе, — он был убежден, что работает за двоих: за себя и за Прасковью.