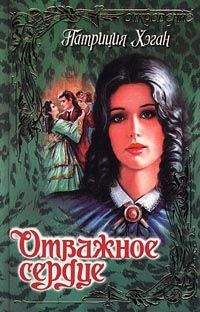Николай Скатов - Некрасов
«Белинский, — со своей стороны вспоминал Некрасов, — видел во мне богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мной... имевшие для меня значение поучения».
Мы привыкли в литературе к словам-определениям, как раз от того времени идущим, типа «школа Гоголя», «натуральная школа», позднее — «некрасовская школа», конечно, употребляемым в условном смысле.
Применительно к Некрасову можно сказать, что он не просто оказался критиком близкого Белинскому склада и лада (и им тоже), но поступил в «школу» Белинского почти в прямом, буквально учебном смысле слова. «Ясно припоминаю, — рассказывал Некрасов Добролюбову, — как мы с ним вдвоем, часов до двух ночи, беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях... заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду! Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением! Что бы ему пожить дольше. Я был бы не тем человеком, каким теперь...»
Белинский был и великим педагогом, просветителем, трибуном, образованнейшим человеком своего времени, и, может быть, из самых образованных (не ученых, И. А. Гончаров недаром развел применительно к Белинскому два эти понятия) . Вот в какой «университет» поступил и вот какого «профессора» приобрел молодой Некрасов. Но дело не только в Белинском, а и в тех, кто его окружал: Анненков, Боткин, Тургенев, наезжавшие из Москвы Герцен, Огарев...
Чему же Белинский мог научить и научил Некрасова, чему он его не научил и не мог научить?
Естественно предположить, что речь идет о той системе воззрений, которая сложилась у Белинского в начале 40-х годов. Вернее, складывалась: Белинский был действительно «великим искателем», никогда не замиравшим на одной точке, не застывавшим в одной позиции. Всегда он больше искал, чем находил. В начале 40-х годов он исповедовал социализм: «идея социализма стала для меня идеей идей». Нигде никак у Некрасова эти воззрения не проявились. Точнее сказать, никакие «воззрения», которые, вообще говоря, дело для русского писателя не необычное: вспомним Гоголя, Достоевского, Толстого, не говоря уже о Чернышевском, Добролюбове, Писареве.
И даже для русского поэта не необычное — Тютчев в своих статьях и письмах, например.
Речь идет в целом о литературных и нелитературных (письма) некрасовских произведениях, а не просто о стихотворных иллюстрациях-декларациях. Как раз они применительно к Белинскому в самом общем, опять-таки чисто декларативном лозунговом виде позднее один раз появились:
Ты нас гуманно мыслить научил.
Едва ль не первый вспомнил о народе.
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе.
И когда говорят о Некрасове в эту пору словами Герцена как о писателе, замечательном «своею социалистическою и демократическою ненавистью», то и здесь должна идти речь прежде всего об определенным образом окрашенной эмоции («ненависть»). Это скорее общесоциальное настроение, чем узкосоциалистическое воззрение. Яркий демократизм уже в начале 40-х годов несомненен, но до народности дело еще далеко не дошло.
Вот эту, особую позицию Некрасова, кстати, прекрасно понимал такой гораздо более четкий, теоретичный и, так сказать, запрограммированный сравнительно с Белинским человек, как Чернышевский: «Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно ошибочно. Правда, у меня было по некоторым отделам знаний больше сведений, нежели у него; и по многим вопросам у меня были мысли, более определенные, нежели у него. Но если он раньше знакомства со мною не приобрел сведений и не дошел до решений, какие мог бы получить от меня, то лишь потому, что для него как поэта они были не нужны... он был поэт, и мила ему была только поэтическая часть его литературной деятельности. То, что нужно было знать ему как поэту, он знал до знакомства со мною, отчасти не хуже, отчасти лучше меня».
Далее Чернышевский показывает на двух первостепенной важности примерах русской жизни (Петр Великий и освобождение крестьян в ходе своего рода великой реформы), как по-разному, иной раз до неожиданностей, он и Некрасов смотрели на дело.
Действительно, в отличие от отрицательно относившегося к Петровским реформам как антинародным Чернышевского Некрасов смотрел на великого царя скорее глазами Пушкина, Белинского и Герцена, видел и общенациональное значение, и трагическую красоту его исторических деяний. По-разному оценят народ тот же мыслитель Чернышевский и поэт Некрасов и в ходе уже современных реформ. Так что Чернышевский недаром резюмирует: «Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей. Имел ли какое-нибудь Добролюбов? Как мог иметь он, когда не имел я?»
Нужно, однако, иметь в виду, что в отношениях к демократическим мыслителям-шестидесятникам Некрасов выступал уже как народный поэт.
Не то с Белинским, который вообще Некрасова никаким поэтом в пору первоначального знакомства не считал; правда, нашел «забавными» некоторые строки в «Говоруне».
Поэтому, «развивая» молодого Некрасова в собственно литературном отношении, он всячески обращал его к прозе — художественной и критической, то есть развивал в, казалось бы, прямо противоположную поэтическому дарованию сторону. В конце концов эта сторона обернулась новым качеством для самой поэзии, хотя, естественно, критик об этом не думал. Это должен был совершить только сам поэт.
Тем не менее пока что поэт усиленно — под бесспорным влиянием Белинского — занимается прозой. В течение почти двух лет, в 1842—1843 годах, пишет «Повесть о бедном Климе», а с 1843 года и большой, во многом автобиографический, роман «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». В романе, как и во многих статьях и фельетонах той поры, стихотворных и прозаических, есть великолепное знание петербургского быта. Знатоки даже полагают, что без Некрасова вообще нельзя понять петербургский быт того времени. Есть в этих произведениях и острая наблюдательность, и художественный талант. Когда, не без цензурного сопротивления, отрывок под названием «Петербургские углы» удалось в 1845 году напечатать, то он был воспринят как одно из лучших явлений гоголевского направления вообще и «натуральной школы» в частности. Казалось бы, у Белинского имелись все основания быть довольным своим учеником: успех налицо.