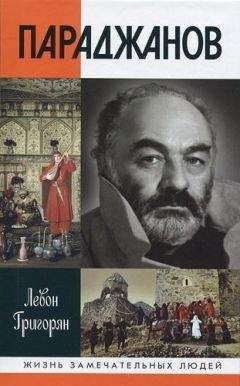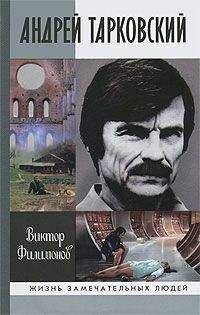М. Загребельный - Сергей Параджанов
Появляется за пятнадцать минут до начала, садится, как всегда, на стуле задом наперед:
– Ну что, бездари, объект готов?
– Готов.
– Где четыреста человек массовки?
– Вот. И еще резерв пятьдесят.
– Все одеты? А ну иди сюда, грим проверю!
– И грим есть!
– Где сто штук лимонов?
– Вот они.
– Где китайские вазы, ковры, оружие?
– Все на месте!
– Где Эльбрус?
– Здесь я!
И оператор Клименко говорит, что все готово. Это совершенно добило Сережу, но он не сдавался:
– А где лошади и верблюды?
– Вон они.
– А где фураж для скота?
– Вот сено, вот овес.
Он ехидно прищурился:
– А где человек, что будет за скотом убирать навоз? Выходит усатый дворник:
– Я буду!
– Видишь, пупусь, все готово! Можно начинать.
– Так, значит, все сделали? Ну и снимайте сами, зачем я вам нужен?!
И ушел с площадки. Обиделся: мы не оставили ему процесса творчества. На другой день не было массовки, Эльбрус был не одет, операторы не готовы. Был час крику-визгу, но съемку провели, и все разошлись довольными…»
Не принесла свободы творчества и вторая половина 80-х – перестройка («пересрайка», по его словам), с помощью которой класс аппарата власти в СССР обманул народы Союза и продолжил свое существование по сей день:
«…Я мало снимал. В моих шкафах 23 нереализованных сценария. Мне трудно. Но это ничего. Мы унесем с собой в нашу смерть частицу себя, и это трансформируется в тайну… Я спрашиваю, кто ответственен за эти 15 лет полной стагнации, без денег, без средств к существованию… Я – единственный советский режиссер, которого трижды сажали в тюрьму – при Сталине, при Брежневе и при Андропове… Кто может принести мне свои извинения? Кто может компенсировать потерянные годы и восстановить во всех моих правах?
…Но, во всяком случае, я на свободе… Я живу по инерции. Моя коммунистическая партия – как амеба в развитии. Одни меня сажают в тюрьму, другие прославляют.
Я – экспериментальный символ перестройки. Я в чести при дворе. У меня на груди кресты… Думают, они золотые, но я вышел из тюрьмы без копейки. Я разрушен, и прежде всего – как творец. Я обворован, и прежде всего – в моем творчестве».
В один прекрасный день 1986 года Параджанов показал В. Катаняну, в будущем автору воспоминаний о художнике, заявку на балет по роману Горького «Мать»:
«Этот насмешник, вольнодумец, аполитичный по своей сути художник – и вдруг: «Постановка балета «Мать» посвящается Великой дате семидесятилетия Великой Октябрьской революции».
– Ты это серьезно?
– Абсолютно. Вот слушай: «Двенадцать картин, как бы балетных притч, возникнут на сцене Театра им. Захария Палиашвили, создавая балетно-психологическую гармонию становления характера революционера Павла Власова и идущей рядом матери – Ниловны, прозревающей и сопутствующей судьбе и сына, и революции…Композитор Р. Щедрин или Г. Канчели… Композитор создаст партитуру балетной эпопеи на основе революционных гимнов и песен… В основу музыкального коллажа войдут детские хоры, частушки, переплясы, церковные песнопения… В финале балета – симфоническое «Интермеццо» и апофеоз арф и колоколов в сочетании с вокализом колоратурных сопрано… Исполнительницы роли матери – Майя Плисецкая, Ирина Джандиери… Новое прочтение «Матери» Горького – праздник искусства, необходимый Советскому государству в целях воспитания молодежи и популяризации революционной классики».
– Сережа, неужели это из тебя вылезли такие слова? – Я был ошарашен.
Но он тут же прочитал мне либретто первой картины. Это было на уровне школьного сочинения – рассвет, заводской гудок, почему-то уже с утра измученная толпа рабочих, зевая, бредет на фабрику, среди них – изможденная Ниловна. Что ни строчка, то «капитализм», «эксплуатация», «кровопийцы»…
– А вот послушай финал. Во весь пол сцены расстелено знамя, посреди звезда. Справа стоит Ниловна, протягивая руки кверху, а из-под колосников, как бы паря в воздухе, к ней спускается… угадай кто?
– Неужели Карл Маркс?
– Га-га-рин! И лицо у него то Павла, то Юрия, то Юрия, то Павла…
Звонят колокола, и поет хор колоратурных сопрано.
Я был уверен, что он меня мистифицирует. Отнюдь. Наоборот, попросил позвонить Плисецкой и Щедрину и рассказать о его предложении. Я отнекивался долго. «Считай, что я этого не слышала», – ответила Майя Михайловна».
В феврале 1988 года, в возрасте 64-х лет, Параджанова советская власть впервые выпустила за кордон. Он летел в Роттердам, где чествовали двадцать лучших кинорежиссеров мира, «надежду двадцать первого века».
Из-за непогоды он три дня не мог вылететь в Москву и болтался в тбилисском аэропорту. Катананям в Москву позвонила его приятельница М. Бараташвили:
«– Мы в отчаянии, он не возвращается домой, так как самолет может улететь в любой момент, и мы возим ему туда еду, делаем уколы инсулина. Аэропорт переполнен, и «надежда двадцать первого века» ночует на полу на своих узлах. Ради Бога, встретьте его, приютите и позвоните мне, когда он прилетит.
– Непременно. Но что за узлы он тащит в Голландию?
– Увидите.
И увидели. Он загромоздил ими всю квартиру, и по комнатам можно было ходить только извиваясь. Это были баулы с курдскими юбками, тюки с восточными шалями, огромные мешки с пачками грузинского чая.
– Кому ты собираешься это дарить?
– Найду кому. В крайнем случае буду просто кидать в толпу».
Слово режиссеру: «Шестьдесят три года меня будили по утрам либо кредиторы, либо милиционеры. Сегодня меня разбудила городская ратуша в Роттердаме. Она била в куранты, и я проснулся. Открыл глаза и увидел свое окно. Оно ослепило меня. Я не мог понять, что там творится, что там кипит, мельтешит. Неужели, подумал я, это океан?
Это были чайки. Они прилетели к отелю и кружили у моего окна с шумом и криками. Но криков я не слышал – окна были закрыты. Я не мог понять, что происходит – они падали куда-то вниз, что-то клевали и вновь поднимались. Виной всему был сыр. Дорогой тушинский сыр, который я привез с собой. Когда я покупал его, все смеялись надо мной, говорили, что роттердамцы не станут его есть – они, мол, гордятся своим. Но чайки – они налетели на сыр и жадно его клевали. Какая прелесть! Какое счастье!
В тот день я сказал друзьям-роттердамцам, что если спустя три года кто-нибудь в Роттердаме увидит хотя бы одну чайку, прилетевшую к моему окну на шестом этаже гостиницы «Хилтон», знайте – или я молюсь за вас, или я умер».
На торжественный раут в Роттердаме необходимо было явиться в черном смокинге. Все, конечно, явились… Представьте себе торжественную реку белых сорочек и черных смокингов. Посреди этого черно-белого большинства красуется в чем приехал Параджанов – в единственном числе. Но, соблюдая приличия, он нацепил на шею дощечку, где красиво вывел два английских слова – «No smoking!». (Дескать, я без смокинга, уж извините.)