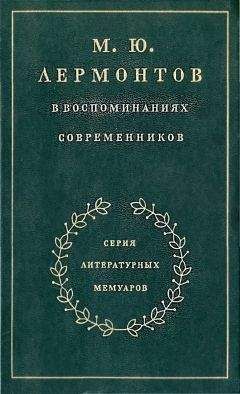Николай Коняев - Николай Рубцов
Вообще, живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться».
Сходные мысли звучат и в стихотворении о детстве, когда ...мечтали лежа, о чем-то очень большом и смелом, смотрели в небо, и небо тоже глазами звезд на нас смотрело...
Но и обращение к детству — эта спасительная для многих палочка-выручалочка — не помогает Рубцову преодолеть неудовлетворенность. Ловко подогнанные друг к другу строчки:
Я рос на этих берегах!
И пусть паром — не паровоз.
Как паровоз на всех парах,
Меня он в детство перевез... —
не способны удержать образы реальной жизни.
Стихи Рубцова все более заполняются словесной эквилибристикой:
Буду я жить сто лет,
и без тебя — сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет, сто «нет»!
В своей антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны» Константин Кузьминский сообщает, что именно в 1961 году Рубцов увлекся перевертышами.
«Интерес к вывескам наблюдался у поэта Коли Рубцова, который писал мне в 1961 году, что ходит по городу и читает вывески задом наперед. Элемент прикладного абсурда, о котором, в приложении к Рубцову, ни один из его биографов не сообщает. Тем не менее это литературный факт. Письмо я натурально потерял. В письме еще были стихи, но они где-то приводятся по памяти».
Справедливости ради надо сказать, что интерес к словесной игре сохранялся в Рубцове до конца жизни. Многие вспоминают, как по утрам придумывал он «хулиганские» стихотворения.
В провинциальном магазине
Вы яйца видели в корзине,
Вы подошли к кассирше Зине
И так сказали ей, разине:
— Какого хрена эти яйца
Гораздо мельче, чем у зайца?
Она ответила не глядя:
— Зато крупнее ваших, дядя!
Но это было своеобразной гимнастикой...
Подобные шутливые экспромты часто воспроизводятся в воспоминаниях о поэте, но сам Рубцов редко записывал их. Придумывались подобные шутки для разминки; для «разогрева», и самоцелью для Рубцова не являлись.
А тогда, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов (еще одно следствие фестиваля) в столицах начало входить в советский быт слово «стиляга». Узкие брюки сделались знамением времени. Одни утверждали с их помощью свою свободу, свое право на собственное, отличное от общественного, мнение; другие восприняли невинные отклонения в одежде как угрозу всей советской морали. На улицах городов появились комсомольские патрули, вылавливающие стиляг... Появились и музыкальные «стиляги». В 1956 году Борис Тайгин (тот самый, который «издаст» потом первую книжку Николая Рубцова) «схлопотал», например, пять лет за «музыку на ребрах». Кто-то придумал записывать музыку на старых рентгеновских снимках, и Ленинград заполонили самодельные пластинки, на которых можно было разглядеть изображение человеческих костей. Музыка тоже была похожей на рентгеновские снимки:
Зиганшин[7]— буги!
Зиганшин — рок!
Зиганшин съел
Второй сапог!
Такое это было время, когда Николай Рубцов поступил в девятый класс вечерней школы № 120 рабочей молодежи.
Кочегаром он работал недолго.
В мае 1961 года перешел работать шихтовщиком в копровый цех и поселился в заводском общежитии на Севастопольской улице.
— Везучий я в морской жизни... — шутил он. — Служил на Баренцевом море, а живу на Севастопольской...
Товарищ Николая Рубцова по общежитию — Александр Васильевич Николаев вспоминает:
— Жил я в одной комнате с Николаем Рубцовым... Койки наши стояли рядом. Засиживались вечерами допоздна: я учился в машиностроительном техникуме, Николай — писал стихи. В его тумбочке лежала стопка листов, испещренных пометками, вычеркнутыми строчками, вымаранными чернилами словами. Иногда Николай часами бился над одним словом. Бывало, вернемся с завода в общежитие — в комнате хоть шаром покати: добываем у ребят хлеба, ставим чайник, пьем кипяток...
В молодости общежитский неуют переносится легче, но не таким уж молодым был Рубцов, да и все двадцать пять скитальческих лет, оставшихся за спиной, тоже брали свое, и временами в стихах прорывалась горечь:
Что делать? —
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит.
На памятник Газа в окно гляжу:
железный! А все-таки... плачет.
«Николай Рубцов, — пишет в воспоминаниях Глеб Горбовский, — был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем. Суп отвергал.
Помню, пришлось мне заночевать у него в общежитии. Шесть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин отсутствовал. И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал с кастеляншей, пояснял ей, что пришел ночевать не просто человек, но — поэт, и поэтому необходимо — непременно! — сменить белье».
Жил Рубцов в общежитии на Севастопольской, в комнате номер шестнадцать, где и были написаны стихи, вошедшие в сокровищницу русской классики: «Видения на холме», «Добрый Филя»... Первые стихи настоящего Рубцова.
— 3 —Как и когда началось превращение рядового сочинителя, среднего экспериментатора в великого поэта? Едва ли и в дальнейшем, когда более основательно будет изучен ленинградский период жизни Рубцова, мы сможем получить исчерпывающий ответ на этот вопрос. Даже его тогдашние друзья не уловили произошедшей в нем перемены.
«Не секрет, — признается Глеб Горбовский, — что многие даже из общавшихся с Николаем узнали о нем как о большом поэте уже после смерти. Я не исключение».
Но если нельзя ответить на вопрос «когда?», то объяснить, почему случилась эта перемена, можно попытаться.
Ни в Москве, ни в Ленинграде о трагедии русской деревни ничего не знали и не хотели знать. Магазины были завалены продуктами, и здешнюю публику больше волновали нападки Хрущева на абстракционистов. Это после того известного выступления Хрущева, как утверждают многочисленные мемуаристы, и отшатнулась от Никиты Сергеевича интеллигенция, а отнюдь не тогда, когда, раскручивая новый виток геноцида русского народа, начал он наступление на нищую деревню.