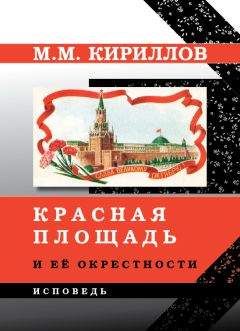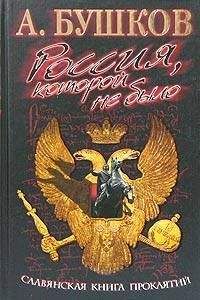Владимир Карпенко - Щорс
— Анархию! Всякую сволочь, дезертиров. Газеты скверно читаете, Щорс.
Николай как ни в чем не бывало продолжал:
— Господин Рычков желал определенности. Доскажу. Из официальной прессы не уловишь истинного положения, одни угрозы в адрес германцев да бравурные призывы к наступлению. А солдатские комитеты требуют мира, отказываются наступать и вообще… против войны.
— Ага! — обрадовался зло Рычков. — Власти добиваются.
— Да. Момент острый… Временное правительство или Советы. Исход зависит от армии. Чью сторону она примет…
— Вот именно!
— Не радуйтесь, штаб-ротмистр. Анапский полк вы знаете. Временному правительству дал один из первых присягу. À нынче отказался идти в наступление. Выводы отсюда?
— Слухи, Щорс… Вредные слухи. Можете за них, знаете… поплатиться.
— Не слухи. Вчера встретил сослуживца, анапца. Он в соседнем госпитале. Призывал в наступление. Солдаты пытались поднять на штыки… Штаб-ротмистр, вроде вас. Кстати, он знает вас… по Одоевскому полку.
Рычков на глазах менялся в лице.
— Погодите! — вспомнил есаул. — Одоевский. Где-то в Карпатах… Восстание там подымалось на рождество!
— Да, — кивнул Николай. — Господин Рычков прямой участник в нем…
Пощадил, не досказал — удовлетворился жалким, растерянным видом штаб-ротмистра. Понимал, спесь с него сбита окончательно. Кому ни доведись, сознаться в таком деле по нынешним временам опасно. Январские события в Одоевском полку всколыхнули весь фронт. Оружие — на царя! Сомнения нет, деспот офицер первым поплатился своими боками. На штыки не брали, как того анапца, — разделали прикладами при ясном дне. Оттого и зачах.
События назревали. К осени фронт уже потерял интерес и значение — разложился совсем. Солдаты не стреляли с той и другой стороны — обнимались. В печати и в народе загуляло необычное для войны слово «братание». Внимание всех — на Петроград. Кто? Временное правительство или Советы? Никогда так не ждали газет. И весть пришла: Временное правительство низложено…
Жизнь в палате сникла, а вскоре и заглохла. Первым исчез Рычков, не прощаясь, ночью. За ним — есаул. Этот поклонился всем от порога, приглашал к себе на Кубань, в теплые, благодатные края.
В конце декабря откомиссовали по чистой с военной службы и Николая. Старую юнкерскую шинель его и холщовую солдатскую сумку доставила из вещевого склада Валя. Прощались они за чугунными воротами госпиталя.
— Возвращайся, если что… Тебе нужен крымский воздух.
Он ответил взглядом: «Пока не знаю».
Поезд увозил на север, в родные места.
Сновск встретил неприветливо, хмуро. Люду необычно много. Больше серой, окопной братии: едут бесстройно, ватагами, сбиваясь уже в дороге в землячества. Винтовки без малого у всех. Домой, по хатам тащат; видать, привыкли за кои годы, стали роднее и ближе жен.
Вдоль вагонов прохаживались моряки. Трое их. Эти не едут — хозяева. Шагают вразвалку, будто по палубе, опутанные накрест пулеметными лентами; у самых лодыжек, едва не касаясь затоптанного снега, болтаются на ремнях маузеры в деревянных кобурах. Кого-то высматривают. Николай спиной почувствовал на себе их взгляды, цепкие, ощупывающие.
Удручающей оказалась встреча и дома. Испуг, оторопь, жалость вызвал своим появлением у близких. Схлынула первая волна, остыв, Николай понял, что причина в его внешности. Присмотрелся к себе, привык, но домашние знают и помнят его другим. Пожалел, не послушался Валю и не предоставил ее ножницам свободу. Можно было бы сменить и шинель на более приличную.
Дома уже — и брат, Константин. Не виделись с лета 14-го. Возмужал, окряжистел; гладко выбритые щеки источали здоровье, свежесть. Позавидовал в душе. Знал, брат офицер, а рубаха простая, солдатские и шаровары; выдавали сапоги да пояс. Все порывался спросить — мешала детвора; освоившись, липла — не оттолкнешь. Всячески отстранял от себя, не брал на руки; мачеха сделала замечание: наскучали, мол. Причину во всеуслышание открыть не хватало сил.
Отца тоже не видел с начала войны. Поразил вид: старик! Ссохся, сморщился, оскудели волосы и усы; ростом убавил. Сердце сжалось от жалости, видя, как он суетится возле него. Николаю духу не хватало открыть свою беду — вконец добьет.
После бани, устроенной, как в детстве, на кухне, в свежем белье, в горнице у зеркала развернул бритву. Все свободные в доме приняли участие в судьбе его бороды. Младшие шумели хором и вразнобой; большинство за. Константин против, в меньшинстве. С добродушной усмешкой, пожимая крепкими плечами, сам же взялся за ножницы. Подстригая, говорил:
— Нынче модно голосовать. Все решает голос. Большевики так и власть взяли. Большинством.
— Сам-то не большевик? — переняв в зеркале его взгляд, спросил Николай.
— Как же! Первый — штык в землю, и айда. Поперед тебя дома очутился.
Брат все тот же, балагур, весельчак. Куда ветер, туда и он. Легко, наверно, таким жить на свете, в любых условиях, в любом месте приживется.
— Ножницами, гляжу, орудуешь ловко, — сказал, ощущая прилив теплых чувств к брату.
— Жизнь, она всему научит.
Вечером пришел дядя Казя. Уединились в детской. Встретились как равные, умудренные жизнью люди, повидавшие и познавшие на свете всякого. Не надо было им объясняться: с первого взгляда утвердились в своей обоюдной догадке. Чахотка у обоих.
— Привез из Сибири, с царской каторги, — качал дядя обреченно головой, исподволь окидывая взглядом племянника. — А ты, вижу, свою из окопов. По письмам твоим догадался, не ранением тут пахнет… Полгода небось лежал?
— Восемь месяцев.
— Открытая форма?
— Затянуло.
Кто-то из малых скребся в дверь. Николай подпер спиной, не пустил.
— К вам пойду ночевать. Сам видишь, дети… Лезут. Мачеха обиделась уж. Вроде чужой, мол. Не придумаю, отцу как сознаться или Косте…
— Отец знает.
— Откуда?
— Такое трудно скрыть. Прибегал днем до нас отец. Плакал… Сдал совсем старик.
После ужина Николай объявил, что ночевать он идет к Табельчукам. Детвора запротестовала, мачеха нахмурилась, отец промолчал. В постелях, без лампы, дядя с племянником наговорились досыта. Угомонились, когда побелели щелки ставен.
Сотой доли, оказывается, не проникало в газеты из того, что происходило на Украине. Родная сторона бурлила. С весны еще, после свержения царя, подняла она норовистую голову. В апреле на съезде националистов было сформировано правительство — Центральная рада. В Раду вошли представители буржуазии и националистически настроенной интеллигенции. При помощи украинских социал-демократов и эсеров правители пытались возглавить национально-освободительное движение на Украине. Но это оказалось им не по силам. Между революционным пролетариатом и украинской национальной буржуазией вспыхнула жестокая борьба за политическое руководство крестьянскими массами. В первом же универсале Рада провозглашала, что земельный вопрос решит учредительное собрание, осудила захват крестьянами помещичьих земель.