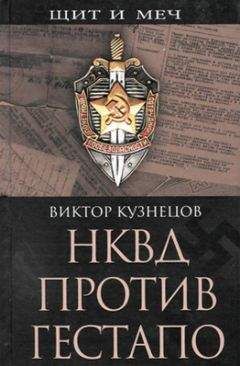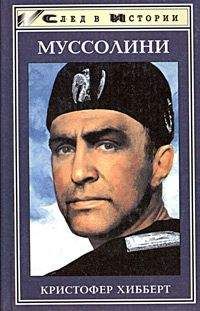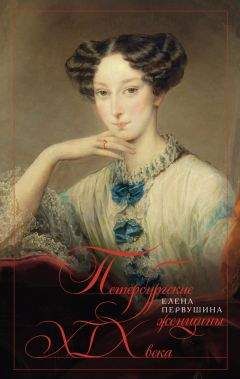Яков Гордин - Три войны Бенито Хуареса
Если бы отойти в сторону и посмотреть со стороны на это кипение страстей и идей?..
Он знал, что за дверью — в спальне — Маргарита, сидя перед зеркалом, убирает на ночь с помощью девочки-индианки свои длинные, тяжелые черные волосы. Конечно, она была уже не той семнадцатилетней сильной и веселой девушкой, как тогда — во время их женитьбы. Ей теперь было тридцать лет, и она родила ему семерых детей. Она стала тяжелее и медлительнее, но осталась по-прежнему прекрасной — ее строгое и доброе лицо, с тонкой смуглой и розовой кожей, ее плечи — гладкие и блестящие, на взгляд кажущиеся твердыми, полированными, а на самом деле такие нежные и теплые, все ее уверенное тело…
Дон Бенито сильно постучал потухшей сигарой о край пепельницы — стряхнул пепел, снова раскурил сигару. Ноздри его раздулись — он с наслаждением нюхал сигарный дым. Хорошие сигары — единственная роскошь, которую он позволял себе.
Он посмотрел на дверь спальни. Нет, еще рано.
В эти последние недели 1856 года он перестал узнавать себя, он стал себе непривычен. Еще недавно он радовался, что не заседает на конгрессе, — это дает возможность, не вовлекаясь в споры и дрязги, личные неудовольствия и удовольствия, оценивать обстановку. Теперь он сомневался в благодетельности этой позиции. Вдруг — ни с того ни с сего — он потерял ориентировку. Его чутье говорило ему, что кончается нечто — эпоха, период, кончаются судьбы одних и начинаются судьбы других, что старая политика себя изжила. Теперь жизнь страны представлялась ему не в виде стремительного потока, но бурлящим темным омутом, в котором, переплетаясь, мощно ходили крупные и мелкие струи, уходили в глубину, вырывались на поверхность, но все это на одном небольшом пространстве, это была бурная неподвижность. Он чувствовал своим чутьем маленького индейца из Гелатао, что наступает пауза. Пауза? Странно — столько событий: конгресс, мятежи, реформы… Он не мог объяснить себе это ощущение, но оно не проходило и мучило его. Он был деятелен, тверд, энергичен с виду. Но про себя знал — недоумение и растерянность сейчас сильнее всего в нем. Все чаще возвращался к нему огромный оранжевый ядозуб, неподвижно сидевший на горячем черном камне. Все, что угодно, можно было прочитать на его чешуйчатом лице — затаенную злобу, мудрость, доброту, презрительное безразличие. От прищура глаз или поворота головы глядевшего зависело то, что читалось на лице ядозуба.
Желто-зеленое поле созревающей кукурузы, выжженные склоны холмов и раскаленная сухая тишина окружали Бенито Хуареса. Никогда еще не был так силен соблазн — остаться в тишине: дом, сигара, дети, милое строгое лицо и блестящие смуглые плечи доньи Маргариты… Никогда еще с таким волнением, доходящим до ужаса, не чувствовал Хуарес этот таинственный поворот, который совершается в судьбе страны. И ему, Хуаресу, придется принимать какие-то решения, ранее недоступные и неизвестные… Как в детстве чувствовал оборванный мальчишка, бродивший в горах, перемену погоды, смену времен года, так теперь чувствовал дон Бенито эту перемену…
У него не хватало больше сил выносить томление и страх перед надвигающимися событиями. Он положил сигару в пепельницу, встал, затянул пояс халата, подошёл к дверям спальни и постучал.
Донья Маргарита, одна сидевшая перед зеркалом, повернулась к нему, улыбнулась большим ртом с чуть поднятыми уголками и прижала ладонью кружева пеньюара у горла.
Его лицо потеряло свою геометрическую жесткость, только детский восторг и лукавое добродушие выражало оно…
ИГРОКИ В ПОКЕР
В полдень 25 октября войска мятежников были выстроены на площади перед дворцом. Солдаты повесили кресты поверх мундиров, некоторые прикололи бумажные иконки. После того как полковник Мирамон с соратниками обошел строй, на площадь вышла процессия монахинь. Они несли белый флаг с красным широким крестом. Толпа кричала. Затем должны были служить мессу.
Около часа дня к Мирамону подошел адъютант и что-то тихо сказал ему. Радостное мальчишеское лицо Мирамона мгновенно застыло. Он повернул голову к стоящему рядом подполковнику Рейесу.
— Они подходят…
Такой хватки он от Комонфорта не ожидал…
Мирамону не пришлось идти на Мехико.
Комонфорт за сутки собрал четыре тысячи штыков и сабель при тридцати орудиях и форсированным маршем двинул их на Пуэблу.
Под вечер 25 октября в городе услышали первые выстрелы орудий и первые ядра ударили в стены домов. Генерал Сулоага давал понять, что пощады в случае упорства не будет.
Началась вторая осада Пуэблы…
19 ноября Сулоага штурмовал монастырь Конкордия, один из главных опорных пунктов осажденных. Мирамон выдвинул вперед земляные укрепления, надеясь обескровить атакующих, прежде чем бой перейдет на территорию монастыря.
Белое знамя с широким красным крестом развевалось над длинным окопом, который занимали солдаты первого батальона Второго линейного полка — любимцы Мирамона.
Мирамон шел по окопу, заговаривая с солдатами, иногда поглядывая в сторону противника. Орудийный грохот нарастал. Ядра то с хрустом врезались в бруствер, сложенный из щебня и песка, то перелетали через окоп.
Мирамон поравнялся с тем местом, где в бруствер было воткнуто древко знамени. Он прислушался и выскочил на борт окопа, глядя назад — в сторону монастыря. Серая каменная стена то там, то здесь вспыхивала белыми облачками пыли — одна из батарей Сулоаги перенесла огонь на монастырь.
— Они недавно разрушили в Мехико монастырь святого Франсиско, — выкрикнул Мирамон, — в котором наши предки молились столетиями, в котором жили святые… Если мы не остановим их, они разрушат все монастыри Мексики, разобьют все колокола, сровняют с землей могилы наших отцов, перебьют всех священников и запретят нам носить святой крест. Что же будет с нашими душами, друзья? Что мы скажем господу, представ перед ним в свой смертный час? Что мы по трусости и по слабости веры не защитили дом его и слуг его? Что скажем мы святому Георгию, нашему небесному генералу? Что недостойны были звания солдат и мужчин? Кто скажет мне…
В этот момент ядро с тонким треском срезало древко знамени и, взвыв, прошло мимо Мирамона.
Солдаты с ужасом смотрели на распластавшееся по песку полотнище.
Сильным прыжком Мирамон перемахнул окоп, взбежал на бруствер и поднял знамя за остаток древка. Он держал его невысоко, на согнутых руках, знамя ложилось ему на левое плечо.
— Принести новое древко! — крикнул он.
Двое солдат бросились к монастырю.
Осаждавшие заметили странного знаменосца. Ядра стали гуще ложиться на участок бруствера, в центре которого стоял человек со знаменем.