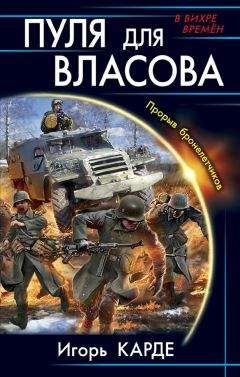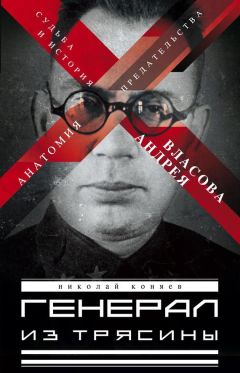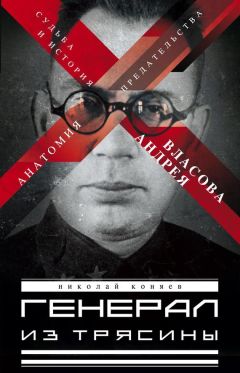Артур Миллер - Наплывы времени. История жизни
Отец глубоко переживал каждый спектакль, и если уж любил Джекоба Эдлера, то Монти Вулли, тонкого комедийного актера с бородкой, чьим лучшим фильмом был «Человек, который пришел на обед», в буквальном смысле не выносил. В годы Депрессии и в сороковые кино было дешевым бальзамом для утоления печалей: они с матерью наскребали двадцать пять — пятьдесят центов и шли покупать билеты в кинотеатр по соседству. Если на экране появлялся Вулли, отец не мог усидеть и, к вящему недоумению мамы, начинал пересаживаться с места на место по всему залу, желая найти такое положение, в котором актер бы его так не раздражал. Что такое кино, он не понял не только тогда на крыше, он не понял этого никогда. Был какой-то рок в том, что, когда я впервые познакомился с Мэрилин, задолго до нашей свадьбы, она снималась в эпизоде в фильме, где заглавную роль исполнял Монти Вулли.
Однажды во время представления в «Регент-театр» на углу 116-й улицы и Седьмой авеню программа была неожиданно прервана. Акробаты закончили свое выступление, и сопрано, ужавшись, сократило программу, прекратив нас тиранить, когда перед занавесом возник человек в цивильном костюме — администратор театра — и возвестил, что нам предстоит стать «свидетелями» необыкновенной истории. Он скороговоркой выпалил, что весь спектакль — предостережение молодежи, а также взрослым о вреде наркотиков. Пообещав, что мы увидим поучительную и захватывающую пьесу, он исчез. Занавес поднялся — на сцене был «притон» в китайском квартале. Глупые белые люди из приличных семей тайком приходили сюда, чтобы накуриться опиума и попасть в «страну сновидений». У задника стояли двухэтажные нары, которые, будь постели заправлены, очень бы смахивали на летний скаутский лагерь. Два китайца с длинными косичками, в костюмах с широкими рукавами, в черных туфлях-лодочках набивали опиумом трубки и предлагали их каждому, кто входил. Те тут же ложились на нары, едва обменявшись словом с этими проходимцами.
Вдруг на сцене появилась красивая молодая женщина в белоснежном вечернем туалете с двумя обаятельными белокурыми молодыми людьми в белых смокингах и соломенных канотье. Они пришли развлечься в китайском квартале. Один из них, тот, кто понахальнее, раскурил трубку, сел на край нар и смешно завалился на спину, хихикая, будто с первой затяжки попал в «страну сновидений». Китайцы быстро справились со вторым, пытавшимся проявить больше благоразумия, и тут даже мне стало понятно, что, потеряв двух спутников, героиня осталась беззащитной в руках двух гнусных бандитов. Так все и произошло. Ей дали трубку. Она пребывала в сомнении. Мне стоило больших усилий, чтобы не рвануться на сцену и не выбить эту скверную вещь у нее из рук. Трудно было представить, что с такой красивой девушкой может что-нибудь случиться. Но она сделала затяжку, ее веки отяжелели. Еще одна затяжка, и она неуверенно направилась к нарам. Китайцы подсадили ее и начали возбужденно обсуждать что-то на непонятном языке. У края сцены снова появился администратор и пояснил: «Они хотят продать ее в рабство, отправив на корабле в Сингапур, в дом сомнительной репутации». Я был в полном отчаянии, тем более что администратор не предпринял никаких шагов, чтобы спасти ее. Это явно не входило в его намерения. Он повернулся и вышел.
В этот момент один из китайцев полез к ней на нары. По залу пронесся ропот негодования. Сцену залил мертвенно-зеленоватый свет. Зачем, ну зачем ей понадобилось идти в какой-то китайский квартал? Она ведь могла благополучно остаться дома на какой-нибудь Парк-авеню, где уютно и безопасно! Китаец закинул на нары ногу. A-а, она все-таки не спит. Хотя и сильно одурманена, но сопротивляется, правда, очень слабо, бедняжка. Второй китаец бросился, чтобы схватить ее за руки. Завязалась борьба. Несчастная девушка только стонала. А оба ее приятеля-идиота не подавали никаких признаков жизни. Как я их ненавидел! Вдруг за сценой послышались возмущенные крики, шум, гвалт, и появился энергичный пожилой господин с двумя полицейскими. Это был ее отец! Состоятельный, опрятный белый американец, полный искреннего негодования, он с помощью двух человек в синей форме накостылял косоглазым и выволок их за шиворот вон со сцены. Сильно тряханув обоих приятелей, он разбудил и пристыдил их, дав наказ никогда-никогда, ни за что в жизни не притрагиваться к наркотикам. И вышел, поддерживая облокотившуюся на его крепкую руку притихшую благодарную дочь. Мертвенно-зеленоватый свет сменился на обнадеживающие розовые тона. Слава Богу, все кончилось благополучно. Я, конечно, извлек для себя урок. И долго не подозревал, что именно англичане заставили китайское правительство снять запрет на вывоз опиума из Индии, тем самым развязав опиумные войны, ибо именно Китай ставил целью охранить белого человека, хотя это и не удалось. Принадлежа к белому меньшинству, мы с мамой были, однако, далеки от столь будоражащих переживаний, когда, довольные, шли по Ленокс-авеню домой на 110-ю улицу.
Одной из особенностей Нью-Йорка в те времена — как, впрочем, и теперь — была глубокая обособленность жизни разных групп населения. Этот город подобен джунглям, испещренным хитросплетениями троп, по каждой из которых ходит особый вид людей только к своим насиженным местам и гнездам. Кроме школьных учителей и Микуша, мы не общались ни с кем из людей нееврейской национальности, причем процветание нашей семьи усугубляло ее обособленность внутри некоего магического крута. Только богатое воображение матери с ее тягой к чтению да деловые поездки отца служили источником новостей о другой жизни, центром которой были неевреи. Возможно, именно отказ отца безоговорочно приписывать все высшие природные добродетели евреям, а неевреям — обязательный антисемитизм породил во мне если не веру, то упование на существование общечеловеческих ценностей. Когда дело доходило до этнических особенностей, отец был одновременно и правоверен, и весьма скептичен. Противоречия между семейными добродетелями и сексуальными влечениями, между идеализмом и умением извлечь выгоду отец во время поездок наблюдал не только у евреев, но и у неевреев тоже, с которыми легко сходился, будучи светловолос и голубоглаз.
Двадцатые годы, на которые пришелся расцвет его карьеры, были периодом подъема ку-клукс-клана. Ряды этой организации быстро росли, и там, где не хватало черных, мишенью становились евреи. По тем временам расизм и фанатизм считались чем-то естественным, а то и похвальным, граничили с патриотизмом и чувством гордости за своих предков. Если кто и мечтал тогда о переплавке в американском многонациональном котле, то это была наша семья в двадцатые годы: скоро я уже ни о чем не думал, кроме поступления в Уэст-Пойнт. В заветных мечтах я видел себя Фрэнком Мериуэллом или Томом Свифтом — достойными подражания образцами атлетической мощи и воинской отваги, а не чахлым толкователем Талмуда. Как показало время, не желая расставаться с иллюзиями, мы строили крепость на песке. Она рухнула, испытав два сокрушительных удара — Депрессию и развязанную Гитлером войну. И дело было не только в евреях, недооценивших реальную картину мира, но в том, что не оправдали себя священные принципы демократии с ее установкой на совершенствование нравов и обостренное восприятие несправедливости. В начале сороковых мир узнал, что немцы преследуют евреев en masse[5], а в 1942-м стало известно, что их сжигают, но антисемитизм в американском государственном департаменте и британском форин-оффис был столь силен, что даже официальные иммиграционные квоты, которые при всей их мизерности все же могли стать спасением для нескольких тысяч евреев, никогда полностью не использовались. Точно так же, как во время воздушных налетов никогда не бомбили железные дороги в лагеря смерти. И американская еврейская общественность, боясь взрыва антисемитизма и враждебности по отношению ко всем иностранцам сразу, не настаивала, чтобы для спасения беженцев были приняты все необходимые меры. Если так печально обстояли дела в 1942-м, когда Демократия открыто поднялась на борьбу с Нацизмом, самым страшным злом которого был расизм, то каково же было истинное положение дел в конце двадцатых, когда по всей стране триумфально шествовали отряды ку-клукс-клана. А я тем временем мечтал выступать в финальном розыгрыше кубка по бейсболу за Йельский университет или сражаться с Томом Свифтом против немцев на нашей мальчишеской субмарине образца первой мировой войны. Я уже говорил, что уход от действительности, отказ от нее не является прерогативой евреев, поэтому, возможно, именно в Америке одной из насущных потребностей писательского сердца является стремление приподнять завесу над тем, что было скрыто и отрицалось.