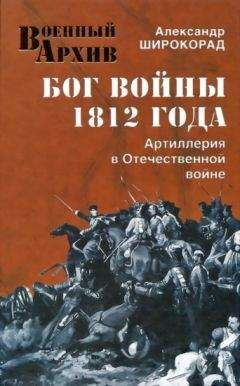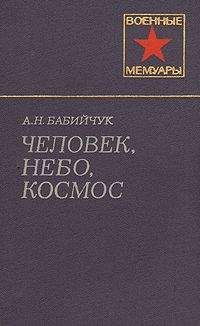Даниил Данин - Нильс Бор
18 марта 1912 года Резерфорд написал из Манчестера старому другу: «Бор, датчанин, покинул Кембридж и появился здесь…»
Глава четвертая. ПЕРВЫЙ СКАЧОК
Он приехал, а Резерфорд уехал… Надолго — почти до конца апреля. За рулем своей машины новозеландец отправился с семьей и Брэггом на континент. Бора, датчанина, он оставил на попечение своих мальчиков — Ганса Гейгера и Эрнеста Марсдена — несравненных знатоков эксперимента в области радиоактивности. Так бывало со всяким, кто появлялся в резерфордовском клане: прежде всего надлежало пройти экспериментальный курс новой атомистики.
…Бор поселился в Хьюм-Холле — не очень далеко от лаборатории. Отсюда он уже не писал Маргарет об ивах, наполненных ветром. И о прозрачном небе над головой не писал. Вокруг ничто не напоминало о Кембридже — о нестареющей старине, дававшей равные права камням и травам. Здесь со всех сторон обступал человека продымленный город — индустриальный век. И часто нелегко решалось, что там влачится вверху под ветром: вольные облака или принудительные дымы фабричных труб? Избыточно красные закаты были угрюмы — без копенгагенской акварельности. Тусклый снежок податливо превращался в черную слякоть. Это не воодушевляло.
Здесь ощущалась корыстная деловитость века концернов и монополий. Она, эта деловитость, гнала познание вширь — век жаждал все новых практических следствий из прочно установленных истин. И еще никто не думал, что тихое продвижение физиков в глубь материи — иголочное проникновение в атом — обернется когда-нибудь технологическими взрывами, да и просто взрывами, вулканической мощи.
Все же была в Манчестере и своя привлекательность: то, что называется «пульсом жизни», билось там в учащенном ритме. Бор не мог вспомнить, довольствовался ли он в Хьюм-Холле одной комнатенкой или жил в двух. С улыбкой умозаключал теоретически: «Я был доктором и поэтому думаю, что у меня была маленькая спальня плюс рабочий кабинет». Детали поставляла воспоминаниям логика, но сама память молчала. И была права: проблема холостяцкого жилья не имела для него в Манчестере никакого значения. В фокусе жизни стояла работа — только она.
И еще один довод привел он историкам в пользу двух комнат: «Я был старше других (Гейгера и Марсдена)». И не заметил, что ошибся. Ровно наполовину: бакалавр Эрнест Марсден и вправду был младше на четыре года, зато доктор Ганс Гейгер был на столько же старше. Но такие ошибки содержательней точности. Память сохранила ему ощущение старшинства: знатоки эксперимента учили его лабораторным хитростям — «они с такой добротой показывали мне разные вещи», а его мысль тем временем пробивалась через лабиринт теоретических хитростей, где никто не мог показать ему такой простой вещи, как верная дорога. Не мог бы даже сам Папа и Проф, как с вольной почтительностью именовали на обоих этажах лаборатории Резерфорда, вдохновлявшего здесь всех. Впрочем, Бору, будто преднамеренно, был предоставлен случай стать резерфордовцем в отсутствие Резерфорда, когда тот уехал в отпуск — отдохнуть от своей доброй власти.
Как повелось, все трудились с девяти утра без лишних словопрений: Резерфорд не терпел отвлекающей болтовни. Но был час после полудня, когда все собирались в физпрактикуме на чаепитие и выговаривались досыта. Бор слушал. Чаще всего отмалчивался. Иногда — от застенчивости, иногда — потому, что ему еще нечего было сказать. Разговоры, кроме всякой всячины, вертелись вокруг планетарного атома. Никто не выдвигал спасительных идей — ни у кого их не было. Но перед мысленным взором недавнего кембриджца все детальней вырисовывалась замечательно абсурдная и потому притягательная картина: сочетание классической невозможности резерфордовской модели и ее реальной плодотворности!
Те праздничные чаи превратились для него в ежедневные семинары по планетарному атому. И он сразу пристрастился к ним. Позднее, летом, когда он уже весь поглощен был теоретическими выкладками и мог совсем не ходить в лабораторию, это пристрастье все-таки выволакивало его после полудня из уединения в Хьюм-Холле. И он появлялся за общим столом ради живого голоса спорящих коллег. И теперь ему самому все чаще бывало что сказать…
На этих-то чаепитиях уже в первые дни он завязал знакомство с Дьердем фон Хевеши. Вдвоем, со стороны, они выглядели не очень-то совместимой парой. Похожий на столичного скрипача-виртуоза, узколицый мадьяр и большеголовый скандинав, напоминавший пастора-трудягу из отдаленного прихода. Мастер светской беседы и ненаходчивый словоискатель. Но главное: химик-экспериментатор с инженерными склонностями и физик-теоретик с философическим умонастроением. Что могло их свести? А свело мгновенное взаимопонимание: нежданный вопрос — нежданный ответ. И свело надолго — на десятилетия. Манчестер сразу одарил Бора тем, чем Кембридж не сумел одарить за полгода: другом.
Встретились однолетки-чужестранцы на британской земле. А Бор часто потом повторял, что в Англии это совсем непросто — сблизиться с англичанами. Он юмористически объяснял, какая мысль прежде других приходит в голову британцам: «Вот прибыл этот чужеземец — сейчас начнется…» А что начнется? Смешно: разговоры. Их пугало это, точно сами они были молчальниками! Кембриджский опыт уже научил его не обманываться вежливостью английских улыбок. И он уже заметил, как наступал перелом.
— Потом до них доходило, что я не более жажду разговаривать с ними, чем они со мной. Тогда в отношениях появлялась дружественность… — рассказывал Бор историкам.
Между венгром и датчанином неоткуда было взяться на чужой стороне такому психологическому барьеру. Сблизило их и другое.
Хевеши тоже прошел искус Кембриджа. На свой везучий лад — даже не заезжая туда. Он работал в Карлсруэ у выдающегося химика Габера, когда тому померещилось открытие, позже оказавшееся иллюзорным. Предполагаемый эффект требовал лабораторной техники, химикам незнакомой: замера испускания электронов. Молодой венгр отправился зимой 11-го года в Англию. И тотчас встал перед дилеммой — Томсон или Резерфорд?
Потом он объяснил историкам, почему выбрал Резерфорда: «Томсону не нравились идеи, родившиеся не в его голове».
Едва окунувшись в манчестерскую атмосферу, Хевеши без раскаяния изменил Габеру и не вернулся в Германию. Он приобщился к науке, где кончалась традиционная химия и начиналась нетрадиционная физика. Радиоактивность сделалась его пожизненной привязанностью. А планетарный атом — символом веры.
Новообращенные всегда энтузиасты. Они готовы проповедовать. Головы их полны вопросов, а сердца доверия. И весь апрель 12-го года, до самого возвращения Резерфорда, прошел для Бора под знаком Хевеши. Не Гейгера и Марсдена, а Хевеши. И не от опытных физиков, а от начинающего радиохимика узнал он неожиданные для него вещи стимулирующей новизны и непонятности.