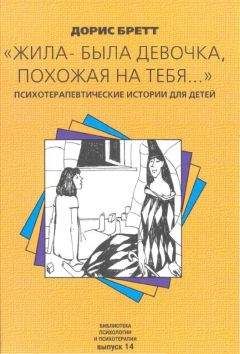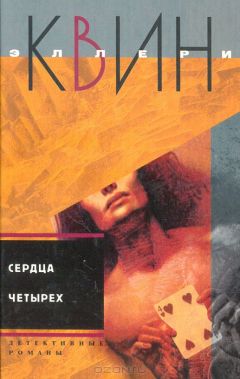Павел Фокин - Блок без глянца
Что же сказать еще об их отношениях? Для нее он рано сделался мудрым наставником, который учил ее жизни и произносил иногда беспощадные, но верные приговоры. Она же была его лучшим и первым другом до той поры, когда он женился на сильной и крупной женщине, значение которой в его жизни было громадно. Мать никогда не мешала сыну в его начинаниях. Он поступил на юридический факультет вопреки ее желанию. Она только поддержала его, когда он задумал перейти на филологический факультет, и уговорила кончить университетский курс (в чем тогда он не видел смысла) каким-то простым аргументом. Она никогда не требовала от него блестящих отметок первого ученика и вообще не донимала его излишним материнским самолюбием, а в таком важном деле, как женитьба, была всецело на его стороне.
Надежда Александровна Нолле-Коган (1888–1966), жена литературоведа профессора П. С. Когана, переводчица:
Лицо очень болезненное, нервозное, в глазах усталость и печаль, но вместе с тем оно очень одухотворенное, нежное, женственное. Жестоким резцом своим провела жизнь на этом лице скорбные борозды, но высоких душевных, «романтических» движений не угасила, они отражались в глазах, в улыбке.
Евгения Федоровна Книпович:
В этой старой женщине – больной, маленькой, хрупкой – жила какая-то «внеличная» сила. В ней не было ничего «дамского», как в Анне Ивановне Поповой (вдове Д. И. Менделеева, матери Любови Дмитриевны), ни профессорски-светского, как в Александре Дмитриевне Бугаевой – матери Андрея Белого; обе они бывали у меня уже в Москве. В ней ощущалось что-то старинное, дворянское – от 40-х годов, а может быть, и от 30-х, – высокая, наследственная культура, романтизм, изящная насмешливость тех женщин, с которыми дружили Пушкин, Гоголь, Тютчев, Баратынский. ‹…›
Ее коробили даже мои нарочитые «вульгаризмы». Достаточно было сказать, что кто-то «нахлестался» или «просвистался», чтобы она пожаловалась Любови Дмитриевне: «Зачем Женя так говорит! Mais elle n’en a pas le physique!» («Ей это не подходит!»). И если в веселую минуту Блок вспоминал какой-нибудь достаточно невинный эпизод из «жизни богемы», тут же следовала реплика: «Саша, ведь Женя – барышня».
Конечно, в этой щепетильности был и элемент иронической пародии на такую щепетильность, но все-таки реплики не были случайными.
Валентина Петровна Веригина:
Однажды Александра Андреевна была в Мариинском театре. В ту пору перед началом оперных спектаклей исполнялись гимны всех союзных наций. Как раз на другой день я зашла к Кублицким, и Александра Андреевна заговорила об этом. Она сказала, что больше всего по музыке ей нравится русский гимн, а «Марсельеза» возмущает своей внешней эффектностью. Мать Блока не любила французов, находя их поверхностными и легкомысленными, называла часто «французишки». Русскому гению близок гений немецкий, говорила она, «это неестественно, что мы воюем с немцами».
Мария Андреевна Бекетова:
Она сразу приняла в свое сердце его невесту, а потом полюбила его жену, как и всех, кого он любил. Она относилась к Люб‹ови› Дм‹итриевне› совершенно особенно: смотря на нее глазами сына, бесконечно восхищалась ее наружностью, голосом, словечками и была о ней высокого мнения. Несмотря на это, отношения их не имели сердечного характера.
Любовь Дмитриевна Блок:
Всегда Александра Андреевна врывалась в мою жизнь и вызывала на эксцессы. Бестактность ее не имела границ и с первых же шагов общей жизни прямо поставила меня на дыбы от возмущения. Например: я рассказала первый год моего невеселого супружества. И вдруг в комнату ко мне влетает Александра Андреевна:
«Люба, ты беременна!» – «Нет, я не беременна!» – «Зачем ты скрываешь, я отдавала в стирку твое белье, ты беременна!» (Сапогами прямо в душу очень молодой, даже не женщины, а девушки.) Люба, конечно, начинает дерзить: «Ну, что же, это только значит, что женщины в мое время более чистоплотны и не так неряшливы, как в ваше. Но мне кажется, что мое грязное белье вовсе не интересная тема для разговора». Поехало! Обидела, нагрубила и т. д. и т. д.
Или во время нашего злосчастного житья вместе в трудный 1920 год. Я в кухне, готовлю, страшно торопясь, обед, прибежав пешком из Народного дома с репетиции и по дороге захватив паек эдак пуда в полтора-два, который принесла на спине с улицы Халтурина. Чищу селедки – занятие, от которого чуть не плачу, так я ненавижу и запах их, и тошнотворную скользкость. Входит Александра Андреевна. «Люба, я хочу у деточки убрать, где щетка?» – «В углу на месте». – «Да, вот она. Ох, какая грязная, пыльная тряпка, у тебя нет чище?» У Любы уже все кипит от этой «помощи». «Нет, Матреша принесет вечером». – «Ужас, ужас! Ты, Люба, слышишь, как от ведра пахнет?» – «Слышу». – «Надо было его вынести». – «Я не успела». – «Ну, да! Все твои репетиции, все театр, дома тебе некогда». Трах-та-ра-рах! Любино терпенье лопнуло, она грубо выпроваживает свою свекровушку, и в результате – жалобы Саше – «обидела, Люба меня ненавидит…» и т. д.
Самуил Миронович Алянский:
Это было в первых числах апреля 1921 года. Я пришел на Офицерскую, как всегда, вечером. Дверь открыла Александра Андреевна. После приветствий она сказала:
– Сашеньки нет дома, он предупредил, что запоздает, его вызвали на какое-то заседание. Любы тоже нет дома. Посидите у меня, пока Сашенька вернется.
Александра Андреевна заботливо усадила меня, про все расспросила, вспомнила, что последний ее рассказ был об увлечении Блока актерской игрой. Не спеша она продолжала прерванный рассказ о шекспировских спектаклях в Боблове (соседнее с Шахматовом имение Д. И. Менделеева) и о начавшейся дружбе Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой.
Когда речь зашла о том, как Блок волновался всякий раз, примеряя свой театральный костюм и накладывая грим, голос Александры Андреевны начал вдруг падать, и последние слова она произнесла так тихо, что ее едва было слышно. Я подумал, что ей сделалось дурно, и бросился принести воды, но Александра Андреевна остановила меня:
– Ничего, ничего, мне показалось…
Скоро голос ее опять окреп, и она продолжала рассказ. Но ей все время что-то мешало, она несколько раз останавливалась, к чему-то прислушивалась: видно, что-то ее тревожило.
– Знаете, с Сашенькой что-то случилось, – чуть слышно проговорила она, при этом голова ее поникла, глаза закрылись и пальцы она прижала к вискам.
Я подумал, что Александра Андреевна напрягается, чтобы увидеть или представить себе, что именно случилось с Сашенькой.