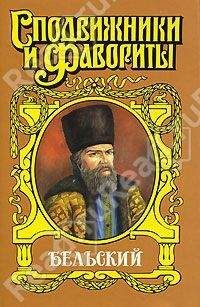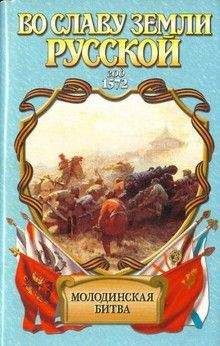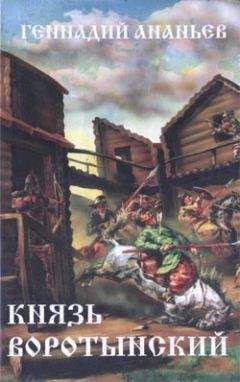Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
Учителя отбивались с искусством испанских героев «плаща и шпаги«». Но особую ярость и неутомимость в бою обнаружили заступавшиеся за них ученики, в частности – ученик выпускного класса Петя Гришечкин. Они всыпали комиссии, что называется, «по первое число». Они доказали, что в обвинительных речах нет ни слова правды; все – поклеп, все – напраслина. Они опутали господам ревизорам карты. Ревизоры надеялись на поддержку учащихся, а малочисленные доносчики прикусили языки: одно дело – нашептывать в темных углах, и совсем другое – выступать с открытым забралом. А вот заступников, притом заступников башковитых и за словом в карман не лезших, оказалось немало. Наскок комиссии был отбит. Но в конце лета она тиснула в губернской газете «Коммуна«» клеветой о нашей школе. Заведующий, Петр Михайлович Лебедев, ответил в редакцию, разбив авторов клеветона по всем пунктам. Редакция, следуя традициям советской прессы, ответа не напечатала, а Губоно (то есть Губернский отдел народного образования – так теперь назывался бывший Губноробраз), куда Петр Михайлович послал копию ответа, оставил кляузу комиссии без последствий.
Мне вспомнились лица товарищей милых…
Если к нам поздно вечером раздавался тихий стук в окно, мы знали, что это мой одноклассник и приятель Сема Левашкевич, живший через несколько домов от нас, по дороге домой с закрытого комсомольского собрания хочет к нам забежать и уведомить, не затевает ли какая-нибудь Свиная Хряшка каверзу против учителей.
Мне вспомнились лица товарищей милых…
Весной 29-го года мои одноклассники и приятели Иван Миронов и Леонид Линьков отказались выполнить поручение бюро городской комсомольской ячейки: ходить в пасхальную ночь по «церквам и выслеживать учителей. Это были не шкурники, не приспособленцы, не карьеристы, а убежденные комсомольцы. Идти на разрыв с комсомолом им было нелегко, потому что они верили в благодетельную неизбежность коммунизма, а коли так, – рассуждали они, – то их место в первых рядах борцов за коммунизм, то есть – в комсомоле. И все же они заявили, что, мол, «извините – подвиньтесь»: шпионами они не были и никогда не будут и уж во всяком случае наотрез отказываются следить за учителями, которые ничего, кроме хорошего, им не сделали. Оба положили комсомольские билеты на стол. Выход из комсомола помешал им поступить в высшее учебное заведение. Летом того же года они на сплошных «вэу» выдержали экзамены на физико-математический факультет тогдашнего 2-го МГУ (Второго Московского государственного университета, ныне – Московского педагогического института имени Ленина), а немного погодя получили по почте извещение, что они не приняты «за отсутствием мест». И это несмотря на то, что многие тогда могли бы позавидовать их «социальному происхождению». Ваня Миронов был сын крестьянина-середняка из села Корекозева Перемышльского уезда, а Леня Линьков – сын сельского учителя и сельской учительницы, которые уже несколько десятилетий подряд благоуспешно сеяли «знанья на ниву народную…». Попали они в вузы лишь несколько лет спустя.
Во время «торжественной части» выпускного вечера моего класса я выступил от имени всех моих товарищей и подруг с благодарственной речью, обращенной к учителям. Бывший «завперпедтех», наш классный руководитель, преподававший у нас физику, химию и естествознание, Георгий Авксентьевич Траубенберг не мог присутствовать на вечере. Он прислал со мной приветствие, которое я же и огласил: «Великолепному, неповторимому девятому классу мой сердечный привет. Г. Траубенберг». А потом – игры и танцы до зари! Чтобы как-то выразить педагогам свою восторженную признательность, мы без конца их качали; учительниц качали с комфортом – на стуле.
Уже спустя несколько дней по окончании школы мать застала меня в слезах.
– Ты что?
– Школу жалко… – ответил я.
Почти все наши учителя долго, как рыбы об лед, бились в нужде. В годы военного коммунизма они получали смехотворное жалованье – маминого месячного жалованья хватало ровно на коробку спичек. Их «паек» состоял из куска чего-то, отдаленно напоминавшего хлеб, и из микроскопического количества сахарного песку. Донашивали чиненое и перечиненное старье. Крутили из «Коммуны» «собачьи ножки», курили махорку, в просторечии «махру». Некоторых выручали собственные сады и огороды, иных, как, например, мою мать и меня, сад и огород, которые мы снимали вместе с домиком. Выручало еще вот что: учителям наряду с прочими гражданами отводились участки земли под картошку, свеклу, капусту. Не обделяли учителей и лугами, независимо от того, держали они скотину или нет. Землю нам обрабатывали крестьяне Маловы и́сполу, а луг – уже при НЭПе – за деньги. Честность Меловых была вне подозрений. Мы никогда их не учитывали и не проверяли, при сборе и дележе урожая редко когда присутствовали: сколько привезут – столько и ладно. Они нам и капусту рубили сечками. Мы ходили только подбирать картошку, чтобы дело быстрее шло, да и какое же это веселое занятие!
Федор Дмитриевич Малов, голубоглазый, скуластый, с лицом коричневого цвета, ближе к глазам отливавшего розовым, с темными усами, которые двумя полуконцами огибали рот, с небольшими проплешинами надо лбом, не лез в праведники, в церковь ходил только по большим праздникам, но несокрушимо верил в то, что «над всеми людьми Бог ваш»:
– Бог – старый хозяин, – часто говорил он.
Федор Малов был на все руки мастер. Он и печки перекладывал, и валенки валял. Погоду предсказывал лучше всякого метеоролога.
– Надо, как ни мога́, с сеном управиться нонче.
– А что? Завтра как бы дождя не было?
– Свободная вещь.
«Свободная вещь«» и «ясный факт«» – это были два его излюбленных выражения.
С сеном он успевал «управиться» до вечера, а на другой день первое, что мы видели, пробудившись, – это заплаканные окна.
Федор Дмитриевич Малов никогда не резал животных. Уходил из дому, если звали соседа зарезать курицу или теленка. По свидетельству его жены, Натальюшки, такой же голубоглазой, как и он, «Хведор» даже «черным словом» не ругался. Не пил. Я несколько раз видел его захмелевшим в Перемышле во время коллективизации: он пил с тоски по лошадям, которых у него взяли в колхоз, – по Костюшке и Орлику. И горевал он не столько из-за того, что подарил лошадей чужому дяде, сколько из-за того, что теперь его лошадей будут бить, а он на них только замахивался кнутиком, вовремя не накормят, вовремя не напоят. И еще пил Федор Дмитриевич с тоски по прежнему укладу крестьянской жизни:
– Мужиков больше в России не будет. Исделают из нас изо всех даже и не рабочих, а батраков на государство. Ясный факт!