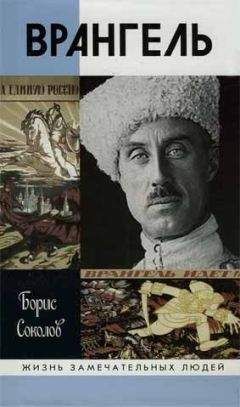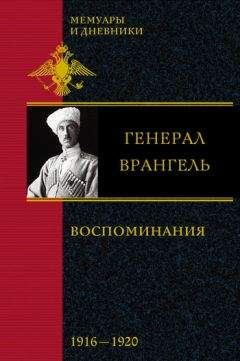Борис Александровский - Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта
Но кстати, этих «чрезвычайных обстоятельств» пока, слава богу, нет. На политической кухне никакими боями не пахнет. Можно спать спокойно. А русские белые эмигранты в политическом «хозяйстве» всегда пригодятся.
Так был решен в начале 20-х годов за кулисами французской политики вопрос о массовом въезде во Францию белых офицеров.
Надо сказать, что просачивание в эту страну русских эмигрантов началось значительно раньше. Но оно происходило в индивидуальном порядке при наличии уважительных причин для въезда: родственных связей, дореволюционных имущественных и служебных отношений, желания совершенствоваться в науках и искусстве, получения высшего образования и т. д.
Немалое количество эмигрантов переехало во Францию из Германии после того, как испуганное эмигрантское воображение усмотрело там «призрак надвигающейся красной опасности» в виде катастрофического падения курса марки, уличных демонстраций, отдельных неорганизованных вооруженных выступлений и т. д.
«Бежать куда угодно, хоть на край света, лишь бы не видеть во второй раз ужасов революции…» — вот психология русского эмигранта, укладывающего в Берлине свои чемоданы для отъезда туда, где никакие революции, по его мнению, «просто немыслимы».
В противоположность этой неорганизованной миграции массовое переселение во Францию бывших врангелевских офицеров и солдат велось в середине 20-х годов по детально разработанному плану.
В Софию и Белград присылались заявки на определенное количество рабочих из русских эмигрантов. Эти заявки исходили от частновладельческих промышленных предприятий и визировались французским министерством иностранных дел. Каждому желающему переселиться во Францию предлагалось подписать контракт на шесть месяцев с обязательством работать в течение этого срока на данном предприятии. По окончании срока контракта завербованному рабочему предоставлялось право остаться во Франции на постоянное жительство. Далее он мог продолжать работать на том же предприятии, если там работа была, или самостоятельно искать ее себе в любом пункте страны.
Летом 1926 года в Софии мне пришлось увидеть проводы очередной группы таких завербованных рабочих из бывших врангелевских офицеров.
Во дворе особняка, занимавшегося отделом РОВСа в Болгарии, собралось человек 40–50. Все они были одеты бедно и неряшливо: кто в залатанных рубахах, кто в старых поношенных френчах, куртках, пиджаках, кто в обтрепанных английских солдатских шинелях времен деникинской авантюры. Это были бывшие белые офицеры, а после роспуска врангелевской армии — чернорабочие, шахтеры, грузчики, официанты, шоферы и т. д.
Я стоял поодаль и наблюдал за происходящим. Дверь особняка отворилась. Из нее вышел начальник отдела РОВСа в Болгарии генерал Витковский, бывший начальник Дроздовской дивизии в деникинские времена, а впоследствии председатель Общества галлиполийцев и глава РОВСа, сменивший на этом посту генерала Миллера.
Раздалась команда: — Равнение направо! Господа офицеры!
Старший группы подошел к генералу с рапортом.
«Офицеры» замерли по команде «смирно». Генерал обратился к отъезжавшим с речью.
О чем он говорил?
О том, во что верила в те годы, за редким исключением, вся эмиграция и что составляло основу построенного ею воздушного замка. Вот вкратце содержание его речи: «Пребывание большевиков у власти затянулось, но гибель их предрешена. Они падут, скоро падут. Перед вами, доблестными офицерами русской армии, откроется блестящее будущее. Вы будете создателями армии будущей России. Сейчас вы унижены. Ваше офицерское достоинство оскорблено. Но все это временно, только временно. Мир начинает понимать, что большевизм — мировое зло. Нам помогут. Нас вооружат. Мы дождемся этого момента. В схватке с большевизмом окончательная победа останется за нами. Надеюсь, господа офицеры, что при следующей нашей встрече я увижу вас уже в форме, с погонами и при оружии. А сейчас — счастливого пути!» Я наблюдал за лицами стоявших в позе «смирно» офицеров-чернорабочих, слушавших эту чепуху. На них застыло выражение благоговения и сознания торжественности момента. Ведь говорило «начальство», и притом очень высокого ранга. А кому же, как не начальству, знать ближайшие судьбы «армии» и сроки грядущего «весеннего похода»!
Описанная сцена происходила шесть лет спустя после окончательного разгрома врангелевской армии.
Шли годы. Вокруг уцелевших остатков этой армии, рассеянных сначала на Балканах, а в дальнейшем во Франции, Бельгии, Чехословакии, Германии, шла и кипела жизнь — реальная жизнь с ее радостями и горестями, успехами и неуспехами, прогрессом и застоем. Но эти уцелевшие остатки не хотели замечать ее, отгородившись от нее каменной стеной. Они создали в своем воображении иллюзорный мир — мир «будущей России», мечтая и гадая о сроках, когда эта «будущая Россия» станет «Россией настоящего». Все остальное было для них только долгим, тяжелым и кошмарным сном, который вот-вот должен кончиться.
И в эту массу не приспособленных к жизни, обезволенных и придавленных людей с опустошенной душой «командование», добровольно ими признаваемое, лило два десятка лет подряд яд антисоветской пропаганды, прикрывая своим авторитетом самые дикие политические бредни. Говорились речи на торжественных собраниях, банкетах, встречах и проводах; писались приказы по РОВСу и его отделам. «Доблестных офицеров» подталкивали на усмирение «мятежей» и на помощь испанским фашистам; на участие в финской войне против СССР и на вступление в жандармские войска гитлеровской армии — «охранный корпус» в Югославии; наконец, их благословляли на «включение в священную борьбу против мирового зла — большевизма» под гитлеровскими знаменами и в форме гитлеровского вермахта.
Ну, а каковы же были, спросит читатель, чувства этих переселенцев к странам их теперешнего и будущего местопребывания — Болгарии и Франции?
Тут читатель столкнется с фактом, мало ему понятным.
Как общее правило, белые русские эмигранты во все годы своего пребывания за рубежом относились резко отрицательно к стране, в которой жили. Это отрицательное отношение имело очень обширный диапазон, начиная от простого ворчания и кончая бешеной злобой ко всему, что носило на себе печать данной страны и данного народа.
Этот факт общеизвестен за рубежом. Я, на протяжении 27 лет живший в самой гуще эмиграции, имел возможность бесчисленное количество раз лично в этом убедиться.
Повсюду, где бы эмигранты ни оседали на постоянное жительство, они, как правило, замыкались в своем узком кругу, чуждаясь коренного населения и не смешиваясь с ним. Французские газеты, засылавшие время от времени своих репортеров в гущу «русского Парижа», неизменно приходили к одному и тому же выводу: «Русские абсолютно не поддаются никакой ассимиляции и никакому „офранцуживанию“. Они живут замкнутым кланом. Значительная их часть, прожив долгие годы во Франции, даже не говорит по-французски и с трудом понимает французскую речь…» Само собой разумеется, что это касалось только первого поколения эмигрантов. С молодежью, родившейся во Франции от родителей-эмигрантов или приехавшей с ними в детском возрасте, дело обстояло, конечно, иначе, о чем мне придется говорить несколько ниже.