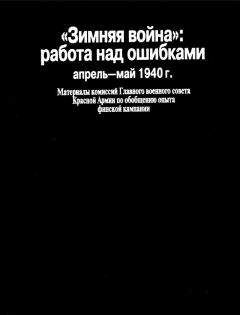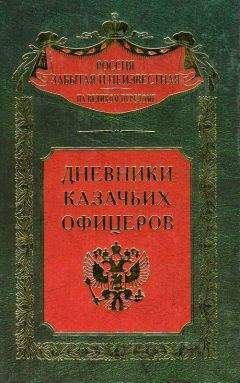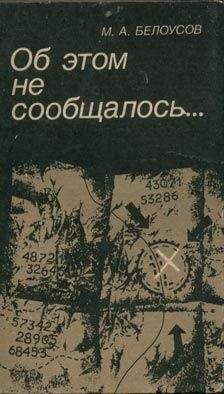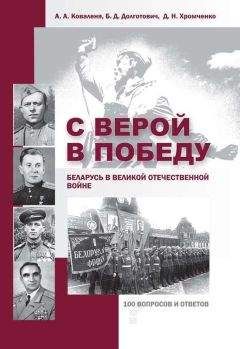Юрий Нефедов - Поздняя повесть о ранней юности
Мишу я видел последний раз примерно через полчаса после появления в нашем городе первых солдат-разведчиков Красной Армии 25 октября 1943 года у хорошо всем известного здания НКВД. Солдаты во главе с двумя офицерами двигались от улицы Володарского, где я их встретил. Я пошел вместе с ними в сторону улицы Шмидта. На улице Артемовской стояли два немецких грузовика, в кабинах которых спали водители. Их разбудили и повели с собой. Они спокойно шли, будто бы давно этого ждали.
В середине семидесятых я лежал с разбитым коленом в клинике профессора Ю. Ю. Коллонтая. Там еще работали сестры, знавшие румына Мишу и всю эту историю с подпольщиками. Они рассказали, что после войны Миша женился на медсестре и у них родился ребенок.
А тогда, в 1942-ом, продолжалась жизнь в оккупированном городе: немцы ходили с высоко поднятыми головами и вели себя очень агрессивно. Когда случалось, что по улицам проводили наших пленных солдат, они избивали их, оскорбляли, а отставших тут же на улицах расстреливали. Я это видел.
По городу ходила молва, как по Короленковской вверх вели колонну наших пленных моряков. Все они были со связанными за спиной руками, шли и пели во весь голос матросские песни, и, конечно же, «Раскинулось море широко…». Немцы бесновались, били прикладами, а когда они приближались, краснофлотцы отбивались ногами. Немцы стреляли, а следом шли машины, в которые складывали убитых.
На улице Исполкомовской, между Чкалова и Комсомольской, в один день повесили на деревьях пятнадцать человек и каждому на грудь прикрепили табличку: «Я помогал партизанам», «Я прятал советских офицеров» и т. д., но народ сразу разобрался, что людей для этой акции устрашения взяли в лагере военнопленных. Все они, одетые в гражданскую одежду, имели загар, характерный для военных.
Участились и ужесточились облавы на молодежь для отправки в Германию. По городу распространялись переписанные письма, песни и стихи от уже угнанных и познавших западную цивилизацию. Были случаи возвращения по болезни, чаще всего искалеченных.
Расклеиваемые листовки и газеты сообщали о взятии Сталинграда. Когда они сообщили об этом в третий раз с интервалом в две-три недели стало понятно, что это вранье. Нам всем было обидно, страшно и по-прежнему голодно. А из открытого окна соседей-фольксдойче доносились запахи вареного мяса и мы спорили, что варится: свинина, говядина или курица.
У соседей, что жили в квартире расстрелянных Добиных, хозяин работал в городской Управе переводчиком, ходил в полувоенной форме и подчеркнуто строго обращался ко всем только по-немецки. Мы все его люто ненавидели, и у его сына Аркадиуса спрашивали, не собирается ли его отец на фронт — помочь фюреру. Нам всем так хотелось, чтобы его там убили.
Союзники немцев вели себя по-разному. Мадьяры, как правило, с населением не общались. Исключение составляли служившие в венгерской армии русины, говорившие на смеси украинского и русского языков. Они контактировали с населением и часто, чем могли, помогали, особенно детям. Румынов надо было опасаться: могли украсть, что попадется, или просто отобрать что-либо приглянувшееся прямо на улице. Особое войско составляли итальянцы. Они также как и мы люто ненавидели немцев и поэтому казались нам чуть ли не союзниками.
На нашей улице в доме № 31 расположилось небольшое подразделение итальянцев — радиостанция с двумя антеннами в саду и несколькими автомашинами во дворе. Основная их часть находилась в Феодосиевских казармах. Свободные от дежурства солдаты прямо на улице часто играли в футбол. Однажды мяч попал в грудь проходившего мимо немца. Он выхватил штык, с которым постоянно ходили солдаты, проткнул мяч и бросил его итальянцам. Те обиды не стерпели и прилично его побили. Через полчаса их расположение окружили около пятидесяти вооруженных автоматами немцев. Итальянцы, очевидно, позвонили в свою часть и оттуда примчались до двухсот вооруженных солдат. Казалось, кровавая развязка неминуема. Мы рванули врассыпную и, попрятавшись, наблюдали за происходящим через щели в заборе. Неожиданно появились карабинеры и стали плотной шеренгой между немцами и своими солдатами. Немцы молча стояли с автоматами наизготовку, а итальянцы бегали за спинами карабинеров, размахивали своим оружием и все очень громко кричали. Потом откуда-то появился офицер карабинеров, подошел к немцам и начал переговоры. Через несколько минут он что-то крикнул своим солдатам, те мгновенно умолкли и, к нашему изумлению и глубокому разочарованию, поплелись молча в сторону своего расположения.
Через много лет, бывая за границей, я несколько раз посещал итальянский ресторан и почти всегда наблюдал подобную картину: за столиками сидят итальянцы, которых легко можно отличить от других европейцев, едят и тихо переговариваются между собой. Потом громче. Дальше еще громче и, наконец, вскакивают, машут руками у лиц оппонентов, кричат и кажется, что сейчас прольется кровь. Страшно. Я готов был выскочить из ресторана, но вдруг все стихало, они усаживались на свои места и как ни в чем не бывало наматывали на вилки свои спагетти, сдабривали их кетчупом и отправляли в рот.
Дни проходили за днями, складываясь в тяжелые месяцы ожидания. Мы взрослели раньше, чем вырастали, и я уже начал понимать, как трудно маме управляться с нами. Время, проведенное вдвоем с Женей, незаметно приучило к самостоятельности и только значительно позже, став взрослым, я понял всю меру огорчений и материнского горя, которое оно принесло маме.
Летом произошли события, которые повернули наши мысли в другую сторону. Сколько нам пришлось пережить, что рассказать об этом придется со всеми подробностями.
Днепропетровск, 4 июля 1942 г.
Зимой в конце 1941-го на нашей улице поселилась семья Сушко: отец Семен Борисович, его сын Юрка, мой ровесник, его сводный брат Рудик и мачеха Юрки, Эмилия Шмидт, немка из местных. Эмилия Шмидт была известна тем, что, работая переводчицей на кухне подразделения полевой полиции в школе № 23, по дороге домой подкармливала немощных стариков и старух на трех кварталах от Шевченковской до Дачной остатками пищи из этой самой немецкой кухни.
В их доме одну комнату занимал молодой немецкий офицер лет двадцати семи, инженер-майор, как подчеркнуто он себя называл. И хоть он был совсем не страшным, страх вызывал его мундир. Комнату он закрывал на ключ. Иногда приходил денщик, пожилой солдат, и убирал ее. В комнате стоял большой радиоприемник, который тянул к себе, как магнит. Изучив дни и время, когда приходил денщик по своим делам, а майор на обед, мы подобрали ключ к комнате и стали регулярно слушать Москву, сводки Информбюро. В тот период каждый день сообщали о боях в Севастополе, а после официальных сводок шли короткие репортажи о героизме его защитников, передавались новые песни о войне, которые мы слышали впервые. Имен и фамилий героев не называли, обозначали их одной буквой, мелькали незнакомые названия: Любимовка, Мекензиевы горы, Сапун-гора, Камышовая бухта, Херсонес, Северная сторона. Я спрашивал у мамы, что это и где. Мои родители, когда поженились в 1924 году, жили в Севастополе. Мама рассказывала, не подозревая причин моего интереса к тем местам.