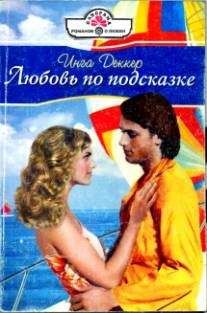Елена Кейс - «Ты должна это все забыть…»
Ну, вот так я и жила от допроса к допросу. И вдруг пятнадцатого мая амнистия. И мамина статья — контрабанда — амнистируется! Амнистия эта вышла к Международному году женщин. И женщины старше шестидесяти лет по многим статьям, в том числе, и по контрабанде, отпускались на свободу. И надо же такое чудо, что следователь Новиков в это время в Ленинграде был! Я знала это, так как у меня как раз за день до этого был очередной допрос. Прочитав в газете утром эту амнистию, я тут же звоню Новикову и прошу срочно меня принять. Как на крыльях бегу в этот ненавистный дом, еле могу дождаться приема. Сердце стучит, кажется, что на расстоянии его стук слышен. Буквально влетаю в его кабинет, сую ему газету и спрашиваю: «Вы амнистию видели?» Он удивленно смотрит на меня, читает газету и чуть-чуть с заминкой говорит: «Ну, что ж, Елена Марковна, согласно этой амнистии я должен вашу маму отпустить». Вот такие слова говорит. Слово в слово. Я даже интонацию помню. И добавляет: «Позвоните мне завтра в десять утра».
Я выбегаю на улицу. Солнечный, радостный, весенний день! Я, не чуя под собой ног, бегу к папе. По моему лицу он видит все. Я целую Андрюшу, танцую, пою. Господи, как я была счастлива! И какой это был жестокий урок для меня. Уже много-много лет спустя, получив, наконец, разрешение на выезд в Израиль после долгого «отказа», мы до последнего мгновения ждали какого-нибудь подвоха. Радость затмевалась тревогой. И, даже уже сидя в самолете, мы боялись, что вот сейчас войдут люди «в штатском» и попросят нас выйти. Я разучилась радоваться предвкушению чего-то хорошего. Они убили это во мне.
Наутро, в десять часов, я позвонила Новикову и услышала ледяные слова: «Елена Марковна, к сожалению, мне нечем вас обрадовать. Прокурор не дал санкцию на освобождение вашей мамы». И повесил трубку. Я не могу описать свое состояние. У меня провал в памяти. Черная дыра. Вечная мерзлота. Паутина.
Я живу, как в липкой паутине,
Чувствуя дыханье паука.
А паук огромный, весь в щетине
И кирзовых грязных сапогах.
Я стою, опутанная ложью
И оплеванная мерзкою слюной.
Смрад и плесень на паучьей коже,
В сердце мертвых жертв богатый перегной.
Я живу, охваченная страхом,
Что останусь жить здесь навсегда.
Сколько судеб здесь покрыто мраком?
К скольким людям здесь придет беда?
И с этого момента начинается полное беззаконие и медленное убийство моей мамы. Прокурор Фунтов Владимир Иванович, спите ли вы спокойно или возмездие совершилось? Я ненавижу вас, прокурор Фунтов. Сколько еще жизней на вашей совести? Будьте вы прокляты! Увы, я могу только догадываться, почему вы не освободили мою маму. Может, вы мечтали о крупном еврейском процессе с впечатляющими доказательствами переправки ценностей в Израиль? Вас уже ждало продвижение по службе? Вы уже приготовили обличительную речь? И вдруг — амнистия. Такой неожиданный поворот! Да к тому же надо вернуть все отобранные вещи! Могли ли вы смириться с таким поражением?! Нет, Партия не научила вас отдавать. Вы привыкли только брать. И убивать… Жизнь моей мамы на вашей совести.
И начинается фабрикация нового обвинения. А сделать это совсем не просто: ведь огромное число статей подпадало под амнистию. Тон допросов резко ужесточился. Количество допрашиваемых свидетелей возросло. Следственная группа начала активно работать на месте прежней работы моей мамы. (Забегая вперед, скажу, что ничего криминального они там не обнаружили). Но им необходимо было выдвинуть против мамы новое обвинение, не подпадающее под амнистию. И они выдвинули абсурдное по сути, но ужасающее по последствиям обвинение: статья 88 часть 2 Уголовного кодекса — валютные операции в крупных размерах. Обязательно в крупных, так как мелкие валютные операции, то есть статья 88 часть 1 тоже амнистируется.
На чем же строится это обвинение? Во время обыска у мамы нашли сломанную сережку: бриллиант отдельно, а оправка отдельно. Бриллиант они конфисковали среди прочих всех вещей, а оправку даже взять не захотели. И я об этой сережке забыла, и они до поры до времени не обращали на нее внимания. И никто из нас не подозревал, что после амнистии они стали вынашивать этот зловещий замысел.
Оказывается, по советским законам хранение бриллианта как камня, не в изделии — уголовное преступление. Конечно, даже для них сфабриковать из этого факта обвинение о валютных операциях в крупных размерах было не просто, но разве для них нужны были какие-нибудь факты?!
Итак, допросы ужесточились. Можно предположить, что не только для нас. Бедная мама почувствовала, наверное, это в полной мере. Уже когда адвокат ознакомился с делом, он сказал мне, что признаки психического расстройства были замечены у мамы через два месяца после начала следствия. Но они продолжали держать ее в одиночке, не прекращались ночные допросы. И все это до последнего дня следствия, то есть все шесть месяцев.
Помню, где-то в августе на очередном допросе, когда уже становилось ясно, куда клонит следствие, Новиков вручает мне записку. От мамы. Уж почерк ее я знаю. Рука, правда, дрожала, но все было ясно написано. А записка такого содержания: «Дорогая доченька! Отдай, прошу тебя, следователю Новикову Сергею Валентиновичу коробочку с драгоценностями, которую я тебе отдала после обыска. В ней должны быть следующие вещи…» И дальше шло точное описание маминых драгоценностей. Я ожидала чего угодно на допросах. Но, прочитав записку, я онемела. И мысли забегали-забегали у меня в голове. Если мама просит все отдать, значит ей это зачем-то нужно. Может быть, после многочисленных допросов свидетелей они получили исчерпывающие доказательства о наличии у мамы драгоценноостей? И если они до сих пор не найдены, то значит они обвиняют маму в их контрабанде? И, может быть, маме нужно доказать, что она не переправила их заграницу? Или что не продала их кому-нибудь здесь, в Советском Союзе? Ведь по советским законам продажа бриллиантов из рук в руки, минуя специальный магазин, является тяжким преступлением. И даже совсем бредовая мысль проносится в голове: вдруг маме предложили «сделку» — она им бриллианты, они ей — свободу. Вот даже до какого абсурда может довести больное воображение.
Все это пронеслось у меня в мозгу, я спокойно встала и говорю: «Через два часа я вернусь». Поехала к бабушке, все забрала и через два часа была снова в кабинете. Новиков взял у меня эту злосчастную коробочку, повертел в руках, открыл и как-то очень спокойно произнес: «Елена Марковна, показать вам в скольких допросах вы говорили, что выдали следствию все? Сосчитать вам, сколько раз вы давали мне ложные показания? Зачем вы это делали? Вы ведь знали, что вы очень рисковали». А у меня пустота в душе и тоска по маме. И я столь же спокойно и безразлично отвечаю: «Меня так воспитали, что я слушаюсь маму, а не следователей КГБ». И замолчала. И даже не знаю, спрашивал ли он меня еще что-нибудь. Я не слышала. И не помню, как дома оказалась.