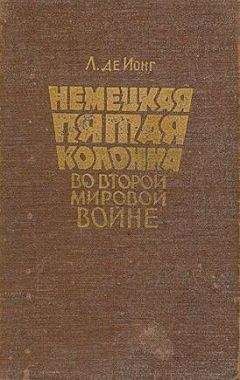Владислав Ходасевич - Дом искусств
О личной жизни Дзержинского не ходило рассказов. Кажется, ее и не было. Он был «вечный труженик». Пока верхи – Каменевы, Луначарские – потягивали коньячок, а низы – мелкие чекисты, комиссары, коменданты – глушили эстонский спирт, Дзержинский не уставал «работать». Не будем отягощать памяти о нем – несовершенными преступлениями. Достаточно совершенных. По-видимому, Дзержинский не воровал, не пьянствовал, не нагревал рук на казенных поставках, не насиловал артисток подведомственных театров. Судя по всему, он лично был бескорыстен. В большевистском бунте он исполнял роль «неподкупного». Однажды затвердив Маркса и уверовав в Ленина, он, как машина, как человеческая мясорубка, действовал, уже не рассуждая. Он никогда не был «вождем» или «идеологом», а лишь последовательным учеником и добросовестным исполнителем. Его однажды пустили в ход – и он сделал все, что было в его силах. А силы были нечеловеческие: машинные. Сказать, что у него «золотое сердце», было хуже чем подло: глупо. Потому что не только «золотого», но и самого лютого сердца у него не было. Была шестерня. И она работала, покуда не стерлась 20 июля, в 4 часа 40 минут.
Разумеется, были перебои и в этой машине. Тут действовал атавизм: ведь шестерня все-таки происходила от человеческого сердца. Дзержинский был сделан Лениным из человека, как доктор Моро85 делает людей из зверей… Покойного Виленкина86 Дзержинский допрашивал сам. Уж не знаю, что было при этом, только впоследствии машина стала давать перебои. Рассказывая одному писателю о допросе Виленкина, Дзержинский, по-видимому, галлюцинировал, говорил двумя голосами, за себя и за Виленкина. Писатель передавал мне, что это было очень страшно и похоже на то, как в Художественном театре изображается разговор Ивана Карамазова с чертом.
В период болезни Ленина, а затем после его смерти многим большевикам пришлось действовать не машинально, не «по наряду», а по собственному разумению. В довершение беды нэп потребовал действий не по разрушению и пресечению, а по созиданию и налаживанию, да еще в направлении непредусмотренном. В число таких «строителей поневоле» попал и Дзержинский. Но ни в Наркомпути, ни, особенно, в Совнархозе он ничего не сделал. Поставить их на такую «высоту», как ЧК, было ему не по силам. Единственное, что он мог, – это нагнать страху на подчиненных. Действовало его ужасное имя. В одной из своих «хозяйственных» речей он недавно сказал:
– Меня боятся, но…
Дальше шло много разных «но», которые все свидетельствовали о его бессилии. Убивать легко, творить трудно!
Это знают большевики, и, конечно, раздастся теперь очередной лозунг:
«Дзержинский умер, но дело его живет».
Основное дело, заплечное мастерство, в котором силен каждый коммунист и к которому каждый имеет касательство.
Уж на что мягкий был человек Воровский87, порой почти обаятельный (я его знавал). Уж какая мирная, торговая и дипломатическая специальность у «европейца» X!88 А вот – рассказ того же писателя.
Однажды этот писатель застал где-то компанию: Воровский, X и неизвестный поляк-инженер. Инженер с пылом говорит о каких-то широких планах, вроде электрификации. Все в восторге, наперебой расхваливают инженера и чуть ли не обнимают. А когда он уходит, большевики говорят писателю, кивая на дверь:
– Последние часы бедняга догуливает. Сегодня его арестуют – и к стенке…
– Как? Почему?
– Польский шпион. Он еще не знает, что нам все известно.
– Почему же его просто не арестуют?..
– А потому, что надо еще от него добыть кое-какие сведения. Не уйдет.
Так – Воровский и X работали на Дзержинского, в должности обыкновенных провокаторов…
Дзержинский умер, но дело его живет.
1926Здравница
Было мне лет пятнадцать, когда старший брат (он был намного старше меня) однажды положил передо мною книгу в зеленой обложке и сказал:
– На-ка, прочти. В наше время было запрещено.
Некрасивыми буквами на обложке стояло: «Н. Г. Чернышевский. Что делать?».
В гимназии в это время читал я Гомера, Овидия, Тита Ливия, «Слово о полку Игореве». Дома зачитывался Шекспиром, декламировал монологи Ричарда III и знал наизусть «Гамлета» в переводе Полевого. В кругу таких чтений Чернышевский сразу показался мне каким-то провинциалом. Мысленно я вводил Ричарда или Кориолана в круг персонажей «Что делать?» – и мне представлялся образ орла в курятнике. После прозы Ливия или «Слова о полку» доморощенная проза Чернышевского была жалка. Прочитав страниц восемь–десять, я вернул книгу брату. В тот день я узнал, что в мировой литературе существует свое захолустье.
Впоследствии я научился снисходительнее соразмерять свои требования, но «Что делать?» ни разу не мог дочитать до конца. Роман остался в моем сознании образцом литературно-общественного плюсквамперфектума. И уж никак я не ожидал, что почти через двадцать лет после первого знакомства с «Что делать?» доведется мне лично встретиться с его героиней – да еще жить с ней под одной кровлей.
Марья Александровна Сеченова89, вдова знаменитого ученого, увековеченная в «Что делать?» под именем Верочки, Веры Павловны Лопухиной, всего лишь на днях скончалась в Москве, в убежище для престарелых деятелей медицинской науки.
Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось «здравницей для переутомленных работников умственного труда». Впрочем, уже тогда здравницу предполагалось обратить в постоянное убежище для медиков.
В здравницу устроил меня Гершензон, который тогда сам отдыхал в ней, так же как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3-м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. Внизу помещалась обширная столовая, библиотека, кабинет врача, кухня и службы. Вверху жили пансионеры. Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом.
Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом – небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились кровать и стол Вячеслава Иванова. В углу вечно мятежного Гершензона царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова – все всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книгами – шляпа, на книгах – распоротый пакет табаку.
Из этих-то «двух углов» и происходила тогда известная «Переписка»90. Впрочем, к моему появлению она уже заканчивалась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов.