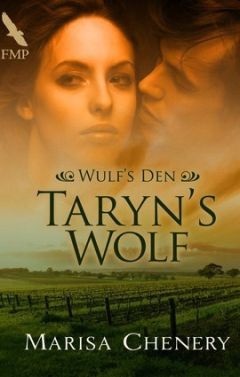Иван Стаднюк - Люди не ангелы
Рассказ музейного работника заинтересовал Степана. Шутка ли: родная Кохановка имеет такую интересную историю, ее земля хранит в себе неслыханные тайны.
"Но что там творится на подворье Христи?" - неотвязно мучил вопрос. Как-то не хотелось верить, что Христю с Олексой и детьми навсегда увезут из села. "А может, так будет лучше, легче? Забуду Христю..." шевельнулась подленькая мысль.
Вдруг с шумом распахнулась дверь. На пороге встала Христя: ни кровиночки в лице, жгучая, как у змеи, темнота глаз, а в руках - топор.
- Подкопался, гад ползучий?!. - Голос у Христи был чужим и страшным. - Загнал в петлю?.. Иди и ты за ним!
И она, подняв топор, со звериным, потрясающим душу воем кинулась к столу, возле которого сидели Степан и работник музея.
Еще секунда, и случилось бы непоправимое. Но Христю успели схватить за плечи вскочившие в сельсовет мужики, которые гнались за ней от самого ее подворья. Во время этой короткой схватки стало дурно представителю музея. Страдавший, как потом выяснилось, болезнью сердца, он при виде взметнувшегося в руках разъяренной женщины топора упал без чувств. Его отвезли в районную больницу и вскоре забыли о нем, как и забыли в повседневных заботах о подземных ходах, на которых якобы стоит Кохановка.
...Христю с двумя дочурками оставили в ее хате. Похоронив Олексу, она зажила бесцветной и тихой вдовьей жизнью.
16
Не одна из кохановских красунь тайком вздыхала по Степану - ладному, доброму парню с черным вьющимся чубом, чистым, румяным лицом, карими глазами, смотревшими на людей с той приветливостью, которая неизменно рождает ответное теплое чувство. Правда, высокий пост Степана как председателя сельсовета не позволял девчатам откровенно выказывать ему свои симпатии. Но наиболее дерзкие находили случай, чтоб задеть его ядреным словом или обратить на себя внимание заливистым смешком, высоким подголоском в песне, а то и шаловливым подмаргиванием глаз, в которых не был притушен греховный блеск.
А сердце Степаново оставалось немым.
Через год после того как повесился Олекса, Степан заявил матери, что хочет жениться на Христе.
- Опомнись, сынку! - с испугом перекрестилась старая Григоренчиха. Зачем тебе чужих детей растить?!
- Дети здесь ни при чем, - с досадой ответил Степан.
- Степа... - заплакала мать. - Бога побойся, меня пожалей. Я надеялась родных внуков понянчить...
- Нянчить внуков - это забава. А мне пора семьей обзаводиться.
- Давно пора! Разве мало девчат гарных?
Степан жалостливо и виновато посмотрел на мать. Мог ли он объяснить ей все? Ведь столько лет был не в силах побороть тоску по Христе, столько лет ходил пришибленным и будто угорелым. Казалось, в груди одни головешки остались.
После того как Христя набросилась на него с топором, Степан стал надеяться, что безрассудная любовь перестанет ломить его душу, что наконец-то наступит в его сердце рассвет. Нельзя же любовью отвечать на лютую ненависть.
Но однажды Христя подстерегла Степана, когда он проходил улицей мимо ее подворья. По-старушечьи закутанная в черный шерстяной платок, хотя было лето, Христя стояла на пороге хаты. Увидев Степана, позвала до боли знакомым ему и родным голосом:
- Степа, задержись на минутку!
- Какой я тебе Степа? - с бледной усмешкой ответил Степан, останавливаясь у ворот и не смея глянуть в лицо приближавшейся к нему Христи, будто страшась расплавить своим взглядом разделявшую их ледяную стену.
- Степой для меня был, Степой и останешься, - напевно и чуть снисходительно ответила Христя.
Степан укоризненно посмотрел на нее и впервые заметил, что годы почти не тронули ее лица. Только несколько морщинок лучиками раскинулись от уголков больших и глубоких глаз. И то, что Христя осталась по-прежнему молода и красива, почему-то обозлило его.
- Может, в хату зайдешь? - с вызывающим смешком спросила Христя.
- А топор приготовила? - В голосе Степана послышалась откровенная враждебность.
И тут же он пожалел о своих словах. Увидел, как отхлынул румянец от лица Христи, как мелко задрожали ее губы, а из потемневших глаз брызнули крупные слезы. Не проронив ни слова, она круто повернулась и с девичьей легкостью побежала к хате. Захлопнула за собой дверь с такой силой, что из крайнего от двери окна вывалилось стекло и, со звоном упав на завалинку, брызнуло осколками.
С тяжелым сердцем удалялся Степан от Христиного подворья. В душе его вместо ожидаемого рассвета еще больше сгустились потемки. Он чувствовал себя стоящим на краю пропасти, в которую хотелось броситься со щемящей радостью.
Кажется, никогда еще не было так тяжело Степану. Мысль о Христе даже в часы самой горячей занятости неотступно витала где-то рядом, всегда готовая вытеснить все другие мысли. И он решился, Однажды в глухую ночь направился на край села и с каким-то восторгом непокорства самому себе решительно постучался в ее хату.
И вот этот нелегкий разговор с матерью...
- Мне уже двадцать семь лет, мамо. Для девчат я стар, - доказывал Степан.
- Говоришь - стар, а ума не набрался. Только в самый раз жениться!
- Женюсь на Христе. Вот мое последнее слово!
Григоренчиха посмотрела на сына болезненным, неспокойным взглядом и строго ответила:
- А мое последнее слово такое: на Христе женишься только после моей смерти.
17
Кузьма Грицай был знаменит в Кохановке тем, что страдал загадочной, непривычно-страшной болезнью - лунатизмом. Его так и звали в селе: Кузьма Лунатик. Не раз видели соседи дядьки Кузьмы, как в светлые лунные ночи он в одном исподнем, босой вскарабкивался на соломенную крышу своей хаты и медленно бродил по гребню или неподвижно стоял на уголке конька, выделяясь на вороненом фоне звездного неба жутким светлым пятном.
Кузьма с затаенной гордостью не раз объяснял мужикам:
- В такую минуту меня не тревожь - ни словесами, ни, оборони бог, камнем. Проснусь и сразу или от страху врежу дуба, или загремлю вниз головой и сломаю шею.
В свои сорок лет Кузьма имел истинно дьявольский лик: он до самых глаз зарос аспидно-черными курчавыми волосами.
Хата Кузьмы Лунатика стояла недалеко от подворья Платона Ярчука, на берегу Бужанки. Не бедно жил он в ней со своей Харитиной, или Кузьмихой, как звали ее в селе, и с сынишкой Серегой. И все было бы хорошо, если б не страшная хворь Кузьмы, от которой не находилось лекарства ни у врачей, ни у бабок-знахарок.
Как-то Кузьма, крепко подвыпив (за ним это водилось), пошел в лавку не столько за покупками, сколько для куражу. Был воскресный день, и на крыльце лавки сидели, дымя самокрутками, лениво переговариваясь, мужики. Среди них сидел и Андрон Ярчук. В империалистическую войну он был на фронте санитаром и теперь слыл в Кохановке знатоком медицины.