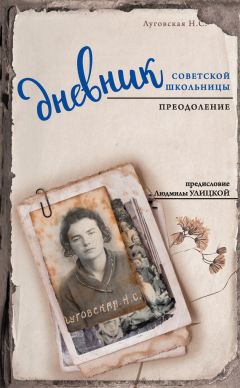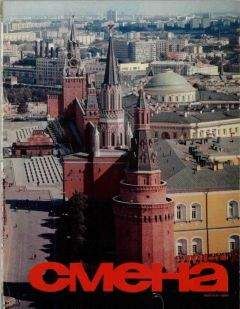Нина Луговская - Хочу жить! Дневник советской школьницы
Как природа жестока и как она умеет смеяться! Наградить желанием, усидчивостью, поразительным и редким терпением и даже немалой силой воли и позабыть главное – способности. Как я жестоко раньше заблуждалась! Как я могла считать себя наравне с сестрами? Как я могла думать об этом? Не смешно ли? Быть глупенькой и со своей глупостью быть уверенной, что умна до гениальности. У меня ведь и лицо глупое, вы только посмотрите на это тупое, ничего не выражающее лицо, загляните в эти сердитые глупые глаза, никто же не скажет, что с таким лицом можно быть умной. Почему Создатель так посмеялся надо мной? Зачем я не умерла раньше? А Женя и Ляля! Они всего за месяц прошли весь девятый класс и сдали экзамены в институт на «отлично»! И в школе они ничего не делали, а все-таки шли всегда первыми там. А я? Кто может поверить, что я только один экзамен по биологии учила до головокружения, до тошноты? И что все биографии я вызубрила наизусть?
<22 сентября 1933>Боже мой, что за мука!.. Да будь проклят день моего рождения, когда я впервые увидала свет. Я теперь понимаю, почему взрослые люди так любят вспоминать свое детство, так жалеют его, ведь года два назад я не понимала этого. Что хорошего в нем? Мне казалось, все было так плохо, а теперь что бы я дала, чтобы воротить его. Да пойди вороти! Его не воротишь, а пройдет еще несколько лет, я кончу семилетку, поступлю в институт… О, тогда я буду жалеть еще больше, тогда я буду жалеть по-настоящему школу, веселье и свободу. Да, свободу, потому что это все-таки свобода против того, что будет потом.
В школе я забываю про себя, про свои мучительные безысходные мысли, начинаю жить и действовать. Уроки не так скучны и невыносимы, как дома, кругом люди, свои люди, с которыми живешь одними интересами и мыслями, чувствуешь себя большой и сильной, чувствуешь, что в тебе живут все они, а в них ты – все за одного и один за всех. Лиза[24] вчера на сборе пионеров пустила про наших девчонок, выписавшихся из пионеров, и про меня гнусную клевету. Не любимая никем раньше, она стала еще более противной. Долго и оживленно мы говорили на переменах и решили объявить ей бойкот, почти все сегодня согласились с нами и поддержали нас. О, мы отомстим ей! Мы не дадим смеяться над нами, мы заставим пожалеть ее о своем остром язычке. Всеобщий бойкот не шутка!
<28 сентября 1933>Уроков, боже мой, как много уроков. Мерзавцы большевики! Они вовсе не думают о ребятах, не думают о том, что мы тоже люди. Какой-то Бубнов[25], черт знает что, а не человек, плетет себе, что в голову взбредет. Пишет статьи в газеты о школе, что надо повысить учебу, дисциплину, а никто из них не понимает самой простой вещи – ведь они только снижают успеваемость. Я сама чувствую, что стала учиться куда хуже, сейчас всякий интерес к учебе пропал, все опротивело и надоело. «Скорей бы вырасти и уехать из страны варваров и дикарей», – думала я сегодня утром.
<17 октября 1933>Сегодня мы с Ксюшей пошли гулять к Новодевичьему монастырю. Когда мы подошли туда, то на несколько минут на повороте нам пришлось остановиться, чтобы пропустить заворачивающий автомобиль. Это была странного вида машина, издали несколько смахивающая на «скорую помощь» или перевозку больных: большие окна и ярко освещенная внутренность… Она медленно и совсем близко проехала мимо нас, так что я ясно различила сидящих на скамьях вдоль стен людей. Их было человек пять-шесть, двое были в штатском, а остальные – в военном.
Они сидели молча, неподвижно, как-то странно напряженно и пристально всматриваясь в прохожих[26]. Сидящий у окна ближе к нам военный долго смотрел на нас, проезжая мимо, и даже повернул голову. Не может быть, да не ошиблись ли мы? Неужели это он?[27] Я не верила, я и теперь не вполне верю. Мы ускорили шаги. Скорей, скорей! Надо вовремя прибыть к монастырю, где мы могли бы застать его.
Мы почти бежали, у конечной остановки было много народу. Редкие фонари тускло светили, покрывая мраком улицы. Мы с Ксюшкой подошли к кладбищенским воротам[28]. Сквозь узкую калитку в чугунных воротах виднелась асфальтовая дорожка входа, по которой редко проходили темные фигуры людей, справа неясно виднелись деревянные бараки для рабочих. Перед нами сплошной чернотой зиял спуск к пруду, вдоль которого тянулась толстая монастырская стена. Черные кривые ивы наклонялись над водой, вдали виднелись широким рядом светлые огоньки – там была набережная.
Безлюдность и темь неприятно бросались в глаза. Мы стояли на мостовой у больших ворот и вполголоса, почти шепотом, разговаривали. «Автомобиль может быть там, за стеной, у пруда, там никого нет». Но там было так темно, что мы не решились углубляться в жуткую темноту и долго стояли, тихо разговаривая и дожидаясь, когда кто-нибудь пойдет по этой дороге. Наконец какой-то мужчина прошел мимо нас и направился к пруду.
Мы тронулись за ним, спускаясь по крутому спуску. Страшной казалась темная облезлая стена, вода была спокойна и неподвижна, кое-где в ней отражались фонари, да далеко на берегу ютились дома. Сзади слышались звонкие голоса не то женщин, не то детей, и, ободренные этим, мы довольно быстро продвигались вперед, пока не дошли до поворота. Городской свет не проникал сюда, и все тонуло тут в полном мраке. Впереди я услыхала выкрики и мужской говор. «Идем обратно! Все равно ничего не добьемся». Рысцой бежали мы обратно.
Гулко отдавались наши шаги под каменными сводами ворот. Густые елки тесными группами стояли вдоль аллеи, могил и крестов не было видно. Все здесь было разорено. На темном фоне ярко вырисовывались высокие колокольни белой старинной церкви и блестели позолотой своих куполов. Несколько стройных голубых елей окружали небольшой белый склеп с золотым куполом. В сущности, чего мы хотели?
<18 октября 1933>Сегодня мы с Ксюшкой часа в три пошли на Воробьевы горы. День был тихий и теплый, подернутый голубой дымкой тумана. У перевоза мы долго сидели на пристани, закинув головы и смотря в небо. Особенно запомнился мне маленький деревянный мостик, внизу скачущий веселый ручей и звонкие всплески воды, бегущей с крутизны. Слева широкая дорожка, усыпанная листьями, и высокие прозрачные березы с розовато-желтыми листьями за оградой. Всюду этот синий сумрак.
Странная штука жизнь. Запутанное сплетение невероятных обстоятельств и противоречий. Но еще более странная вещь человек: он страдает, мучается, изнывает в тоске и злобе, умирает с голода и холода – и все-таки живет. Зачем он живет? Для того, чтобы в один прекрасный день на заре осуществления всех своих заветных надежд попасть под поезд или, сделавшись стариком, быть свидетелем смерти дорогих ему существ и умереть потом одиноким и ненужным? Найдите мне человека, который мог бы сказать чистосердечно и откровенно, не вспомнив ни одного темного пятнышка в своей жизни: «Да, я прожил счастливо». Я не понимаю жизни. С какой стати создали людей и дали им способность мыслить лишь для того, чтобы страдать. Я слушаю сейчас музыку, слушаюсь и наслаждаюсь и… становлюсь еще более несчастной. Тоска, вдруг появляющаяся в сердце, непонятная, глупая и мучительная. Нет счастья, есть только покой. Когда пройдет детство и юность, пора надежд и желаний, то наступит этот покой, но он-то еще хуже, еще ужасней, ведь в нем уже не унесешься в рай на чудесных крыльях фантазии. Как странно – несчастлив бедняк, несчастлив и богач, страдает урод, страдает и красавица, проклинает свою жизнь и молодой, и старик: у каждого свое особое и непонятное другому, но сильное горе.